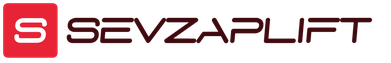Михаил Булгаков: Бег. Смотреть что такое "«БЕГ»" в других словарях Бег действующие лица
Восемь снов
Пьеса в четырех действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Серафима Владимировна Корзухина, молодая петербургская дама.
Сергей Павлович Голубков, сын профессора-идеалиста из Петербурга.
Африкан, архиепископ Симферопольский и Карасу-Базарский, архипастырь именитого воинства, он же - химик Махров.
Паисий, монах.
Дряхлый игумен.
Баев, командир полка в конармии Буденного.
Буденовец.
Григорий Лукьянович Чарнота, запорожец по происхождению, кавалерист, генерал-майор в армии белых.
Барабанчикова, дама, существующая исключительно в воображении генерала Чарноты.
Люська, походная жена генерала Чарноты.
Крапилин, вестовой Чарноты, человек, погибший из-за своего красноречия.
Де Бризар, командир гусарского полка у белых.
Роман Валерьянович Хлудов.
Голован, есаул, адъютант Хлудова.
Комендант станции.
Начальник станции.
Николаевна, жена начальника станции.
Олька, дочь начальника станции, 4-х лет.
Парамон Ильич Корзухин, муж Серафимы.
Тихий, начальник контрразведки.
Скунский, служащие в контрразведке.
Гурин, белый главнокомандующий.
Личико в кассе.
Артур Артурович, тараканий царь.
Фигура в котелке и интендантских погонах.
Турчанка, любящая мать.
Проститутка-красавица.
Грек-донжуан.
Антуан Грищенко, лакей Корзухина.
Монахи, белые штабные офицеры, конвойные казаки белого главнокомандующего, контрразведчики, казаки в бурках, английские, французские и итальянские моряки, турецкие и итальянские полицейские, мальчишки турки и греки, армянские и греческие головы в окнах, толпа в Константинополе.
Сон первый происходит в Северной Таврии в октябре 1920 года.
Сон второй, третий и четвертый - в начале ноября 1920 года в Крыму.
Пятый и шестой - в Константинополе летом 1921 года.
Седьмой - в Париже осенью 1921 года.
Восьмой - осенью 1921 года в Константинополе.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
СОН ПЕРВЫЙ
…Мне снился монастырь…
Слышно, как хор монахов в подземелье поет глухо: «Святителю отче Николае, моли бога о нас…» Тьма, а потом появляется скупо освещенная свечечками, прилепленными у икон, внутренность монастырской церкви Неверное пламя выдирает из тьмы конторку, в коей продают свечи, широкую скамейку возле нее, окно, забранное решеткою, шоколадный лик святого, полинявшие крылья серафимов, золотые венцы. За окном - безотрадный октябрьский вечер с дождем и снегом. На скамейке, укрытая с головой попоной, лежит Барабанчикова. Химик Махров, в бараньем тулупе, примостился у окна и все силится в нем что-то разглядеть. В высоком игуменском кресле сидит Серафима, в черной шубе. Судя по лицу, Серафиме нездоровится. У ног Серафимы, на скамеечке, рядом с чемоданом, Голубков, петербургского вида молодой человек в черном пальто и в перчатках.
Голубков (прислушиваясь к пению). Вы слышите, Серафима Владимировна? Я понял, у них внизу подземелье… В сущности, как странно все это! Вы знаете, временами мне начинает казаться, что я вижу сон, честное слово!
Вот уж месяц, как мы бежим с вами, Серафима Владимировна, по весям и городам, и чем дальше, тем непонятнее становится кругом… видите, вот уж и в церковь мы с вами попали! И знаете ли, когда сегодня случилась вся эта кутерьма, я заскучал по Петербургу, ей-богу! Вдруг так отчетливо вспомнилась моя зеленая лампа в кабинете…
Серафима. Эти настроения опасны, Сергей Павлович. Берегитесь затосковать во время скитаний. Не лучше ли было бы вам остаться?
Голубков. О нет, нет, это бесповоротно, и пусть будет что будет! И потом, ведь вы уже знаете, что скрашивает мой тяжелый путь… С тех пор, как мы случайно встретились в теплушке под тем фонарем, помните… прошло ведь, в сущности, немного времени, а между тем мне кажется, что я знаю вас уже давно, давно! Мысль о вас облегчает этот полет в осенней мгле, и я буду горд и счастлив, когда донесу вас в Крым и сдам вашему мужу. И хотя мне будет скучно без вас, я буду радоваться вашей радостью.
Серафима молча кладет руку на плечо Голубкову.
(Погладив руку.) Позвольте, да у вас жар?
Серафима. Нет, пустяки.
Голубков. То есть как пустяки? Жар, ей-богу, жар!
Серафима. Вздор, Сергей Павлович, пройдет…
Мягкий пушечный удар. Барабанчикова шевельнулась и простонала.
Послушайте, мадам, вам нельзя оставаться без помощи. Кто-нибудь из нас проберется в поселок, там, наверно, есть акушерка.
Голубков. Я сбегаю.
Барабанчикова молча схватывает его за полу пальто.
Серафима. Почему же вы не хотите, голубушка?
Барабанчикова (капризно). Не надо.
Серафима и Голубков в недоумении.
Махров (тихо, Голубкову). Загадочная, и весьма загадочная особа!
Голубков (шепотом). Вы думаете, что…
Махров. Я ничего не думаю, а так… лихолетье, сударь, мало ли кого не встретишь на своем пути! Лежит какая-то странная дама в церкви…
Пение под землей смолкает.
Паисий (появляется бесшумно, черен, испуган). Документики, документики приготовьте, господа честные! (Задувает все свечи, кроме одной)
Серафима, Голубков и Махров достают документы Барабанчикова высовывает руку и выкладывает на попону паспорт.
Баев входит, в коротком полушубке, забрызган грязью, возбужден. За Баевым - буденовец с фонарем.
Баев. А, чтоб их черт задавил, этих монахов! У, гнездо! Ты, святой папаша, где винтовая лестница на колокольню?
Паисий. Здесь, здесь, здесь…
Баев (буденовцу). Посмотри.
Буденовец с фонарем исчезает в железной двери
(Паисию.) Был огонь на колокольне?
Паисий. Что вы, что вы? Какой огонь?
Баев. Огонь мерцал! Ну, ежели я что-нибудь на колокольне обнаружу, я вас всех до единого и с вашим седым шайтаном к стенке поставлю! Вы фонарями белым махали!
Паисий. Господи! Что вы?!
Баев. А эти кто такие? Ты же говорил, что в монастыре ни одной души посторонней нету!
Паисий. Беженцы они, бе…
Серафима. Товарищ, нас всех застиг обстрел в поселке, мы и бросились в монастырь. (Указывает на Барабанчикову.) Вот женщина, у нее роды начинаются…
Баев (подходит к Барабанчиковой, берет паспорт, читает). Барабанчикова, замужняя…
Паисий (сатанея от ужаса, шепчет). Господи, господи, только это пронеси! (Готов убежать.) Святый славный великомученик Димитрий…
Баев. Где муж?
Барабанчикова простонала.
Нашли время, место рожать! (К Махрову.) Документ!
Махров. Вот документик! Я - химик из Мариуполя.
Баев. Много вас тут химиков во фронтовой полосе!
Махров. Я продукты ездил покупать, огурчики…
Баев. Огурчики!
Буденовец (появляется внезапно). Товарищ Баев! На колокольне ничего не обнаружил, а вот что… (Шепчет на ухо Баеву.)
Баев. Да ты что! Откуда?
Буденовец. Верно говорю. Главное, темно, товарищ командир.
Баев. Ну, ладно, ладно, пошли. (Голубкову, который протягивает свой документ.) Некогда, некогда, после. (Паисию.) Монахи, стало быть, не вмешиваются в гражданскую войну?
Паисий. Нет, нет, нет…
Баев. Только молитесь? А вот за кого вы молитесь, интересно было бы знать? За черного барона или за советскую власть? Ну, ладно, до скорого свидания, завтра разберемся! (Уходит вместе с буденовцем.)
За окнами послышалась глухая команда, и все стихло, как бы ничего и не было. Паисий жадно и часто крестится, зажигает свечи и исчезает.
Махров. Расточились… Недаром сказано: и даст им начертание на руках или на челах их… Звезды-то пятиконечные, обратили внимание?
Голубков (шепотом, Серафиме). Я совершенно теряюсь, ведь эта местность в руках у белых, откуда же красные взялись? Внезапный бой?.. Отчего все это произошло?
Барабанчикова. Это оттого произошло, что генерал Крапчиков задница, а не генерал! (Серафиме.) Пардон, мадам.
Голубков (машинально). Ну?
Барабанчикова. Ну что ну? Ему прислали депешу, что конница красная в тылу, а он, язви его душу, расшифровку отложил до утра и в винт сел играть.
Голубков. Ну?
Барабанчикова. Малый в червах объявил.
Махров (тихо). Ого-го, до чего интересная особа!
Голубков. Простите, вы, по-видимому, в курсе дела: у меня были сведения, что здесь, в Курчулане, должен был быть штаб генерала Чарноты?..
Барабанчикова. Вон какие у вас подробные сведения! Ну, был штаб, как не быть. Только он весь вышел.
Голубков. А куда же он удалился?
Барабанчикова. Совершенно определенно, в болото.
Махров. А откуда вам все это известно, мадам?
Барабанчикова. Очень уж ты, архипастырь, любопытен!
Махров. Позвольте, почему вы именуете меня архипастырем?!
Барабанчикова. Ну, ладно, ладно, это скучный разговор, отойдите от меня.
Паисий вбегает, опять тушит свечи, все, кроме одной, смотрит в окно
Голубков. Что еще?
Паисий. Ох, сударь, и сами не знаем, кого нам еще господь послал и будем ли мы живы к ночи! (Исчезает так, что кажется, будто он проваливается сквозь землю.)
Послышался многокопытный топот, в окне затанцевали отблески пламени.
Серафима. Пожар?
Голубков. Нет, это факелы. Ничего не понимаю, Серафима Владимировна! Белые войска, клянусь, белые! Свершилось! Серафима Владимировна, слава богу, мы опять в руках белых! Офицеры в погонах!
Барабанчикова (садится, кутаясь в попону). Ты, интеллигент проклятый, заткнись мгновенно! «Погоны», «погоны»! Здесь не Петербург, а Таврия, коварная страна! Если на тебя погоны нацепить, это еще не значит, что ты стал белый! А если отряд переодетый? Тогда что?
Вдруг мягко ударил колокол.
Ну, зазвонили! Засыпались монахи-идиоты! (Голубкову.) Какие штаны на них?
Голубков. Красные!.. а вон еще въехали, у тех синие с красными боками…
Барабанчикова. «Въехали с боками»!.. Черт тебя возьми! С лампасами?
Послышалась глухая команда де Бризара: «Первый эскадрон, слезай!»
Что такое? Не может быть! Его голос! (Голубкову.) Ну, теперь кричи, теперь смело кричи, разрешаю! (Сбрасывает с себя попону и тряпье и выскакивает в виде генерала Чарноты. Он в черкеске со смятыми серебряными погонами. Револьвер, который у него был в руках, засовывает в карман; подбегает к окну, распахивает его, кричит.) Здравствуйте, гусары! Здравствуйте, донцы! Полковник Бризар, ко мне!
Дверь открывается, и первой вбегает Люська, в косынке сестры милосердия, в кожаной куртке и в высоких сапогах со шпорами. За ней - обросший бородой де Бризар и вестовой Крапилин с факелом.
Люська. Гриша! Гри-Гри! (Бросается на шею Чарноты.) Не верю глазам! Живой? Спасся? (Кричит в окно.) Гусары, слушайте! Генерала Чарноту отбили у красных!
За окном шум и крики.
Ведь мы по тебе панихиды собирались служить!
Чарнота. Смерть видел вот так близко, как твою косынку. Я как поехал в штаб к Крапчикову, а он меня, сукин кот, в винт посадил играть… малый в червах… и - на тебе - пулеметы! Буденный - на тебе - с небес! Начисто штаб перебили! Я отстрелялся, в окно и огородами в поселок, к учителю Барабанчикову, давай, говорю, документы! А он, в панике, взял да не те документы мне и сунул! Приползаю сюда, в монастырь, глядь, документы-то бабьи, женины, - мадам Барабанчикова, и удостоверение - беременная! Кругом красные, ну, говорю, кладите меня, как я есть, в церкви! Лежу, рожаю, слышу, шпорами - шлеп, шлеп!..
Люська. Кто?
Чарнота. Командир-буденовец.
Люська. Ах!
Чарнота. Думаю, куда же ты, буденовец, шлепаешь? Ведь твоя смерть лежит под попоною! Ну, приподымай, приподымай ее скорей! Будут тебя хоронить с музыкой! И паспорт он взял, а попону не поднял!
Люська визжит.
(Выбегает, в дверях кричит.) Здравствуй, племя казачье! Здорово, станичники!
Послышались крики. Люська выбегает вслед за Чарнотой.
Де Бризар. Ну, я-то попону приподыму! Не будь я краповый черт, если я на радостях в монастыре кого-нибудь не повешу! Этих, видно, красные второпях забыли! (Махрову.) Ну, у тебя и документ спрашивать не надо.
По волосам видно, что за птица! Крапилин, свети сюда!
Паисий (влетает). Что вы, что вы? Это его высокопреосвященство! Это высокопреосвященнейший Африкан!
Де Бризар. Что ты, сатана чернохвостая, несешь?
Махров сбрасывает шапку и тулуп.
(Всматривается в лицо Махрову.) Что такое? Ваше высокопреосвященство, да это действительно вы?! Как же вы сюда попали?
Африкан. В Курчулан приехал благословить Донской корпус, а меня пленили красные во время набега. Спасибо, монахи снабдили документиками.
Де Бризар. Черт знает что такое! (Серафиме.) Женщина, документ!
Серафима. Я жена товарища министра торговли. Я застряла в Петербурге, а мой муж уже в Крыму. Я бегу к нему. Вот фальшивые документы, а вот настоящий паспорт. Моя фамилия Корзухина.
Де Бризар. Миль экскюз, мадам! А вы, гусеница в штатском, уж не обер ли вы прокурор?
Голубков. Я не гусеница, простите, и отнюдь не обер-прокурор! Я сын знаменитого профессора-идеалиста Голубкова и сам приват-доцент, бегу из Петербурга к вам, к белым, потому что в Петербурге работать невозможно.
Де Бризар. Очень приятно! Ноев ковчег!
Кованый люк в полу открывается, из него подымается дряхлый игумен, а за ним хор монахов со свечами.
Игумен (Африкану). Ваше высокопреосвященство! (Монахам.) Братие! Сподобились мы владыку от рук нечестивых социалов спасти и сохранить!
Монахи облекают взволнованного Африкана в мантию, подают ему жезл.
Владыко! Прими вновь жезл сей, им же утверждай паству…
Африкан. Воззри с небес, боже, и виждь и посети виноград сей, его же насади десница твоя!
Монахи (внезапно запели). Исполла эти деспота!..
В дверях вырастает Чарнота, с ним Люська.
Чарнота. Что вы, отцы святые, белены объелись, что ли? Вы не ко времени эту церемонию затеяли! Ну-ка, хор!.. (Показывает жестом - «уходите».)
Африкан. Братие! Выйдите!
Игумен и монахи уходят в землю.
Чарнота (Африкану). Ваше высокопреосвященство, что же это вы тут богослужение устроили? Драпать надо! Корпус идет за нами по пятам, ловит нас! Нас Буденный к морю придушит! Вся армия уходит! В Крым идем! К Роману Хлудову под крыло!
Африкан. Всеблагий господи, что же это? (Схватывает свой тулуп.) Двуколки с вами-то есть? (Исчезает.)
Чарнота. Карту мне! Свети, Крапилин! (Смотрит на карту.) Все заперто! Гроб!
Люська. Ах ты, Крапчиков, Крапчиков!..
Чарнота. Стой! Щель нашел! (Де Бризару.) Возьмешь свой полк, пойдешь на Алманайку. Притянешь их немножко на себя, тогда на Бабий Гай и переправляйся хоть по глотку! Я после тебя подамся к молоканам на хутора, с донцами, и хоть позже тебя, а выйду на Арабатскую стрелу, там соединимся. Через пять минут выходи.
Де Бризар. Слушаю, ваше превосходительство.
Чарнота. Ф-фу!.. Дай хлебнуть, полковник.
Голубков. Серафима Владимировна, вы слышите? Белые уезжают. Нам надо бежать с ними, иначе мы опять попадем в руки к красным. Серафима Владимировна, почему вы не отзываетесь, что с вами?
Люська. Дай и мне.
Де Бризар подает фляжку Люське.
Голубков (Чарноте). Господин генерал, умоляю вас, возьмите нас с собой! Серафима Владимировна заболела… Мы в Крым бежим… С вами есть лазарет?
Чарнота. Вы в университете учились?
Голубков. Конечно, да…
Чарнота. Производите впечатление совершенно необразованного человека. Ну, а если вам пуля попадет в голову на Бабьем Гае, лазарет вам очень поможет, да? Вы бы еще спросили, есть ли у нас рентгеновский кабинет! Интеллигенция!.. Дай-ка еще коньячку!
Люська. Надо взять. Красивая женщина, красным достанется…
Голубков. Серафима Владимировна, подымайтесь! Надо ехать!
Серафима (глухо). Знаете что, Сергей Павлович, мне, кажется, действительно нездоровится… Вы поезжайте один, а я здесь в монастыре прилягу… мне что-то жарко…
Голубков. Боже мой! Серафима Владимировна, это немыслимо! Серафима Владимировна, подымитесь!
Серафима. Я хочу пить… и в Петербург…
Голубков. Что же это такое?..
Люська (победоносно). Это тиф, вот что это такое.
Де Бризар. Сударыня, вам бежать надо, вам худо у красных придется. Впрочем, я говорить не мастер. Крапилин, ты красноречив, уговори даму!
Крапилин. Так точно, ехать надо!
Голубков. Серафима Владимировна, надо ехать…
Де Бризар (глянув на браслет-часы). Пора! (Выбегает.) Послышалась его команда: «Садись!», потом топот.
Люська. Крапилин! Подымай ее, бери силой!
Крапилин. Слушаюсь!
Вместе с Голубковым подымают Серафиму, ведут под руки.
Люська. В двуколку ее!
Уходят.
Чарнота (один, допивает коньяк, смотрит на часы). Пора!
Игумен (вырастает из люка). Белый генерал! Куда же ты? Неужто ты не отстоишь монастырь, давший тебе приют и спасение?!
Чарнота. Что ты, папаша, меня расстраиваешь? Колоколам языки подвяжи, садись в подземелье! Прощай! (Исчезает.)
Послышался его крик: «Садись! Садись!», потом страшный топот, и все смолкает. Паисий появляется из люка.
Паисий. Отче игумен! А отец игумен! Что ж нам делать? Ведь красные прискачут сейчас! А мы белым звонили! Что же нам, мученический венец принимать?
Игумен. А где ж владыко?
Паисий. Ускакал, ускакал в двуколке!
Игумен. Пастырь, пастырь недостойный! Покинувший овцы своя! (Кричит глухо в подземелье.) Братие! Молитесь!
Из-под земли глухо послышалось: «Святителю отче Николае, моли бога о нас…» Тьма съедает монастырь.
Сон первый кончается.
СОН ВТОРОЙ
…Сны мои становятся все тяжелее…
Возникает зал на неизвестной и большой станции где-то в северной части Крыма. На заднем плане зала необычных размеров окна, за ними чувствуется черная ночь с голубыми электрическими лунами. Случился зверский, непонятный в начале ноября в Крыму мороз. Сковал Сиваш, Чонгар, Перекоп и эту станцию. Окна оледенели, и по ледяным зеркалам время от времени текут змеиные огневые отблески от проходящих поездов. Горят переносные железные черные печки и керосиновые лампы на столах. В глубине, над выходом на главный перрон, надпись по старой орфографии: «Отдъленiе оперативное». Стеклянная перегородка, в ней зеленая лампа казенного типа и два зеленых, похожих на глаза чудовищ, огня кондукторских фонарей. Рядом, на темном облупленном фоне, белый юноша на коне копьем поражает чешуйчатого дракона. Юноша этот - Георгий Победоносец, и перед ним горит граненая разноцветная лампада. Зал занят белыми штабными офицерами. Большинство из них - в башлыках и наушниках.
Бесчисленные полевые телефоны, штабные карты с флажками, пишущие машины в глубине. На телефонах то и дело вспыхивают разноцветные сигналы, телефоны поют нежными голосами.
Штаб фронта стоит третьи сутки на этой станции и третьи сутки не спит, но работает, как машина. И лишь опытный и наблюдательный глаз мог бы увидеть беспокойный налет в глазах у всех этих людей. И еще одно - страх и надежду можно разобрать в этих глазах, когда они обращаются туда, где некогда был буфет первого класса.
Там, отделенный от всех высоким буфетным шкафом, за конторкою, съежившись на высоком табурете, сидит Роман Валерьянович Хлудов. Человек этот лицом бел, как кость, волосы у него черные, причесаны на вечный неразрушимый офицерский пробор. Хлудов курнос, как Павел, брит, как актер; кажется моложе всех окружающих, но глаза у него старые. На нем солдатская шинель, подпоясан он ремнем по ней не то по-бабьи, не то как помещики подпоясывали шлафрок. Погоны суконные, и на них небрежно нашит черный генеральский зигзаг. Фуражка защитная, грязная, с тусклой кокардой, на руках варежки. На Хлудове нет никакого оружия.
Он болен чем-то, этот человек, весь болен, с ног до головы. Он морщится, дергается, любит менять интонации.
Задает самому себе вопросы и любит сам же на них отвечать. Когда хочет изобразить улыбку, скалится. Он возбуждает страх. Он болен - Роман Валерьянович. Возле Хлудова, перед столом, на котором несколько телефонов, сидит и пишет исполнительный и влюбленный в Хлудова есаул Голован.
Хлудов (диктует Головану), «…запятая. Но Фрунзе обозначенного противника на маневрах изображать не пожелал. Точка. Это не шахматы и не Царское незабвенное Село. Точка. Подпись - Хлудов. Точка».
Голован (передает написанное кому-то). Зашифровать, послать главнокомандующему.
Первый штабной (осветившись сигналом с телефона, стонет в телефон). Да, слушаю… слушаю… Буденный?.. Буденный?..
Второй штабной (стонет в телефон). Таганаш… Таганаш…
Третий штабной (стонет в телефон). Нет, на Карпову балку…
Голован (осветившись сигналом, подает Хлудову трубку). Ваше превосходительство…
Хлудов (в трубку). Да. Да. Да. Нет. Да. (Возвращает трубку Головану.) Мне коменданта.
Комендант, бледный, косящий глазами, растерянный офицер в красной фуражке, пробегает между столами, предстает перед Хлудовым.
Хлудов. Час жду бронепоезд «Офицер» на Таганаш. В чем дело? В чем дело? В чем дело?
Хлудов. Дайте мне начальника станции.
Комендант (бежит, на ходу говорит кому-то всхлипывающим голосом). Что ж я-то поделаю?
Хлудов. У нас трагедии начинаются. Бронепоезд параличом разбило. С палкой ходит бронепоезд, а пройти не может! (Звонит.)
На стене вспыхивает надпись «Отдъленiе контръ-развъдывательное» На звонок из стены выходит Тихий, останавливается около Хлудова, тих и внимателен.
(Обращается к нему). Никто нас не любит, никто. И из-за этого трагедии, как в театре все равно.
Тихий тих.
Хлудов (яростно). Печка с угаром, что ли?!
Голован. Никак нет, угару нет.
Перед Хлудовым предстает комендант, а за ним - начальник станции.
Хлудов (начальнику станции). Вы доказали, что бронепоезд пройти не может?
Начальник станции (говорит и движется, но уже сутки человек мертвый). Так точно, ваше превосходительство. Физической силы - возможности нету! Вручную сортировали и забили начисто, пробка!
Хлудов. Вторая, значит, с угаром?
Голован. Сию минуту! (Кому-то в сторону.) Залить печку!
Начальник станции. Угар, угар.
Хлудов (начальнику станции). Мне почему-то кажется, что вы хорошо относитесь к большевикам. Вы не бойтесь, поговорите со мной откровенно. У каждого человека есть свои убеждения, и скрывать их он не должен. Хитрец!
Начальник станции (говорит вздор). Ваше высокопревосходительство, за что же такое подозрение? У меня детишки… еще при государе императоре Николае Александровиче… Оля и Павлик, детки… тридцать часов не спал, верьте богу! И лично председателю Государственной думы Михаилу Владимировичу Родзянко известен. Но я ему, Родзянке, не сочувствую… у меня дети…
Хлудов. Искренний человек, а? Нет! Нужна любовь, а без любви ничего не сделаешь на войне! (Укоризненно, Тихому) Меня не любят. (Сухо.) Дать сапер. Толкать, сортировать! Пятнадцать минут времени, чтобы «Офицер» прошел за выходной семафор! Если в течение этого времени приказание не будет исполнено, коменданта арестовать. А начальника станции повесить на семафоре, осветив под ним надпись: «Саботаж».
Вдали в это время послышался нежный медный вальс. Когда-то под этот вальс танцевали на гимназических балах.
Начальник станции (вяло). Ваше высокопревосходительство, мои дети еще в школу не ходили…
Тихий берет начальника станции под руку и уводит. За ним комендант.
Хлудов. Вальс?
Голован. Чарнота подходит, ваше превосходительство.
Начальник станции (за стеклянной перегородкой оживает, кричит в телефон). Христофор Федорович! Христом-богом заклинаю: с четвертого и пятого пути все составы всплошную гони на Таганаш! Саперы будут! Как хочешь толкай! Господом заклинаю!
Когда остатки белой армии отчаянно сопротивляются красным на Крымском перешейке. Здесь тесно переплетаются судьбы беззащитной Серафимы Корзухиной, брошенной на произвол судьбы мужем, самого Корзухина, приват-доцента Голубкова, влюблённого в Серафиму, белого генерала Чарноты, командующего фронтом белых, жестокого и несчастного Романа Хлудова, и многих других героев.
История написания
Работать над пьесой Булгаков начал в 1926 году. Для сюжета автором использовались воспоминания об эмиграции его второй жены Л. Е. Белозерской , - она вместе со своим первым мужем бежала в Константинополь, жила в Марселе, Париже и Берлине. Также использовались воспоминания белого генерала Я. А. Слащева .
В апреле 1927 года Булгаков заключил договор со МХАТом, на написание пьесы «Рыцарь Серафимы» (рабочее название пьесы, также известен вариант названия «Изгои»). Согласно условий договора Булгаков должен был закончить пьесу не позднее 20 августа 1927 года. По сути Булгаков таким образом отрабатывал аванс, полученный месяцем ранее за постановку запрещённого цензурой «Собачьего сердца». Рукопись материалов «Рыцаря Серафимы» (или «Изгоев») не сохранилась, скорее всего пьеса была сырая и использовалась только для отчётности бухгалтерии театра.
1 января 1928 года автором был заключён договор с МХАТом на написание пьесы под названием «Бег» и уже 16 марта 1928 года пьеса была передана заказчику. Из-за цензуры, пьеса при жизни автора не ставилась, хотя постановка была близка к реализации благодаря заступничеству Максима Горького .
Постановки
- В 1928-1929 во МХАТе под руководством Немировича-Данченко проводились репетиции пьесы. Предполагался следующий состав исполнителей: Алла Тарасова - Серафима , Марк Прудкин и Михаил Яншин - Голубков , Василий Качалов - Чарнота , Ольга Андровская - Люська , Николай Хмелёв - Хлудов , Владимир Ершов - Корзухин , Юрий Завадский и Борис Малолетков - главнокомандующий , Владимир Синицын - Тихий , Иван Москвин и Михаил Кедров - Африкан . Ставил пьесу И.Я. Судаков при участии Н.Н. Литовцевой , музыка Л.К. Книппера , художник И.М. Рабинович . Однако при Сталине пьеса была запрещена. Премьера пьесы состоялась в Сталинградском театре 29 марта 1957 года .
- В 1970 году пьеса была экранизирована режиссёрами А. А. Аловым и В. Н. Наумовым .
- В 1980 году пьеса была поставлена в Московском театре им.Маяковского .
- В 2003 году пьеса была поставлена в Театре под руководством Олега Табакова (постановка режиссёра Елены Невежиной) .
- В 2010 году пьеса была поставлена в Магнитогорском драматическом театре им. А. С. Пушкина режиссёром Мариной Глуховской .
- В 2010 году в Московском государственном академическом Камерном музыкальном театре имени Б. А. Покровского состоялась премьера оперы «Бег», созданной на основе пьесы композитором Николаем Сидельниковым .
- В 2011 году пьеса была поставлена в Омском академическом театре драмы главным режиссёром театра Георгием Зурабовичем Цхвирава .
- В 2014 году пьеса была поставлена в Молодёжном театре Алтая им. В. С. Золотухина режиссёром Юрием Ядровским .
- 2015 год - «Бег», совместный проект Театра им. Е. Вахтангова и Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Режиссёр Юрий Бутусов . .
- 2015-2016 год - 8 и 22 декабря состоялась премьера спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова, режиссёрский дебют Марии Федосовой на Большой сцене театра "Содружество актёров Таганки " (Театр под руководством Николая Губенко).
Прототипы героев
- Африкан, архиепископ Симферопольский, архипастырь именитого воинства - митрополит Вениамин Федченков , глава церкви Русской армии .
- Генерал-лейтенант Роман Хлудов - генерал-лейтенант Яков Слащёв-Крымский .
- Люська - Нина Нечволодова («юнкер Нечволодов»), походная жена Слащёва.
- Генерал-майор Григорий Чарнота - генерал-лейтенант Бронислав Людвигович Чернота-де-Бояры Боярский , генерал-лейтенант Сергей Улагай .
- Главнокомандующий - барон Пётр Врангель .
Критика
Сталин о пьесе
«Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, - стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. «Бег», в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам ещё один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему «честные» Серафимы и всякие приват-доценты, оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою «честность»), что большевики, изгоняя вон этих «честных» сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно.
Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает домирающий обезматочивший улей.
В обезматочившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд он кажется таким же живым, как и другие.
Так же весело в жарких лучах полуденного солнца вьются пчелы вокруг обезматочившего улья, как и вокруг других живых ульев; так же издалека пахнет от него медом, так же влетают и вылетают из него пчелы. Но стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье этом уже нет жизни. Не так, как в живых ульях, летают пчелы, не тот запах, не тот звук поражают пчеловода. На стук пчеловода в стенку больного улья вместо прежнего, мгновенного, дружного ответа, шипенья десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев производящих этот воздушный жизненный звук, – ему отвечают разрозненные жужжания, гулко раздающиеся в разных местах пустого улья. Из летка не пахнет, как прежде, спиртовым, душистым запахом меда и яда, не несет оттуда теплом полноты, а с запахом меда сливается запах пустоты и гнили. У летка нет больше готовящихся на погибель для защиты, поднявших кверху зады, трубящих тревогу стражей. Нет больше того ровного и тихого звука, трепетанья труда, подобного звуку кипенья, а слышится нескладный, разрозненный шум беспорядка. В улей и из улья робко и увертливо влетают и вылетают черные продолговатые, смазанные медом пчелы грабительницы; они не жалят, а ускользают от опасности. Прежде только с ношами влетали, а вылетали пустые пчелы, теперь вылетают с ношами. Пчеловод открывает нижнюю колодезню и вглядывается в нижнюю часть улья. Вместо прежде висевших до уза (нижнего дна) черных, усмиренных трудом плетей сочных пчел, держащих за ноги друг друга и с непрерывным шепотом труда тянущих вощину, – сонные, ссохшиеся пчелы в разные стороны бредут рассеянно по дну и стенкам улья. Вместо чисто залепленного клеем и сметенного веерами крыльев пола на дне лежат крошки вощин, испражнения пчел, полумертвые, чуть шевелящие ножками и совершенно мертвые, неприбранные пчелы.
Пчеловод открывает верхнюю колодезню и осматривает голову улья. Вместо сплошных рядов пчел, облепивших все промежутки сотов и греющих детву, он видит искусную, сложную работу сотов, но уже не в том виде девственности, в котором она бывала прежде. Все запущено и загажено. Грабительницы – черные пчелы – шныряют быстро и украдисто по работам; свои пчелы, ссохшиеся, короткие, вялые, как будто старые, медленно бродят, никому не мешая, ничего не желая и потеряв сознание жизни. Трутни, шершни, шмели, бабочки бестолково стучатся на лету о стенки улья. Кое где между вощинами с мертвыми детьми и медом изредка слышится с разных сторон сердитое брюзжание; где нибудь две пчелы, по старой привычке и памяти очищая гнездо улья, старательно, сверх сил, тащат прочь мертвую пчелу или шмеля, сами не зная, для чего они это делают. В другом углу другие две старые пчелы лениво дерутся, или чистятся, или кормят одна другую, сами не зная, враждебно или дружелюбно они это делают. В третьем месте толпа пчел, давя друг друга, нападает на какую нибудь жертву и бьет и душит ее. И ослабевшая или убитая пчела медленно, легко, как пух, спадает сверху в кучу трупов. Пчеловод разворачивает две средние вощины, чтобы видеть гнездо. Вместо прежних сплошных черных кругов спинка с спинкой сидящих тысяч пчел и блюдущих высшие тайны родного дела, он видит сотни унылых, полуживых и заснувших остовов пчел. Они почти все умерли, сами не зная этого, сидя на святыне, которую они блюли и которой уже нет больше. От них пахнет гнилью и смертью. Только некоторые из них шевелятся, поднимаются, вяло летят и садятся на руку врагу, не в силах умереть, жаля его, – остальные, мертвые, как рыбья чешуя, легко сыплются вниз. Пчеловод закрывает колодезню, отмечает мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее.
Так пуста была Москва, когда Наполеон, усталый, беспокойный и нахмуренный, ходил взад и вперед у Камерколлежского вала, ожидая того хотя внешнего, но необходимого, по его понятиям, соблюдения приличий, – депутации.
В разных углах Москвы только бессмысленно еще шевелились люди, соблюдая старые привычки и не понимая того, что они делали.
Когда Наполеону с должной осторожностью было объявлено, что Москва пуста, он сердито взглянул на доносившего об этом и, отвернувшись, продолжал ходить молча.
– Подать экипаж, – сказал он. Он сел в карету рядом с дежурным адъютантом и поехал в предместье.
– «Moscou deserte. Quel evenemeDt invraisemblable!» [«Москва пуста. Какое невероятное событие!»] – говорил он сам с собой.
Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогомиловского предместья.
Le coup de theatre avait rate. [Не удалась развязка театрального представления.]Русские войска проходили через Москву с двух часов ночи и до двух часов дня и увлекали за собой последних уезжавших жителей и раненых.
Самая большая давка во время движения войск происходила на мостах Каменном, Москворецком и Яузском.
В то время как, раздвоившись вокруг Кремля, войска сперлись на Москворецком и Каменном мостах, огромное число солдат, пользуясь остановкой и теснотой, возвращались назад от мостов и украдчиво и молчаливо прошныривали мимо Василия Блаженного и под Боровицкие ворота назад в гору, к Красной площади, на которой по какому то чутью они чувствовали, что можно брать без труда чужое. Такая же толпа людей, как на дешевых товарах, наполняла Гостиный двор во всех его ходах и переходах. Но не было ласково приторных, заманивающих голосов гостинодворцев, не было разносчиков и пестрой женской толпы покупателей – одни были мундиры и шинели солдат без ружей, молчаливо с ношами выходивших и без ноши входивших в ряды. Купцы и сидельцы (их было мало), как потерянные, ходили между солдатами, отпирали и запирали свои лавки и сами с молодцами куда то выносили свои товары. На площади у Гостиного двора стояли барабанщики и били сбор. Но звук барабана заставлял солдат грабителей не, как прежде, сбегаться на зов, а, напротив, заставлял их отбегать дальше от барабана. Между солдатами, по лавкам и проходам, виднелись люди в серых кафтанах и с бритыми головами. Два офицера, один в шарфе по мундиру, на худой темно серой лошади, другой в шинели, пешком, стояли у угла Ильинки и о чем то говорили. Третий офицер подскакал к ним.
– Генерал приказал во что бы то ни стало сейчас выгнать всех. Что та, это ни на что не похоже! Половина людей разбежалась.
– Ты куда?.. Вы куда?.. – крикнул он на трех пехотных солдат, которые, без ружей, подобрав полы шинелей, проскользнули мимо него в ряды. – Стой, канальи!
– Да, вот извольте их собрать! – отвечал другой офицер. – Их не соберешь; надо идти скорее, чтобы последние не ушли, вот и всё!
– Как же идти? там стали, сперлися на мосту и не двигаются. Или цепь поставить, чтобы последние не разбежались?
– Да подите же туда! Гони ж их вон! – крикнул старший офицер.
Офицер в шарфе слез с лошади, кликнул барабанщика и вошел с ним вместе под арки. Несколько солдат бросилось бежать толпой. Купец, с красными прыщами по щекам около носа, с спокойно непоколебимым выражением расчета на сытом лице, поспешно и щеголевато, размахивая руками, подошел к офицеру.
– Ваше благородие, – сказал он, – сделайте милость, защитите. Нам не расчет пустяк какой ни на есть, мы с нашим удовольствием! Пожалуйте, сукна сейчас вынесу, для благородного человека хоть два куска, с нашим удовольствием! Потому мы чувствуем, а это что ж, один разбой! Пожалуйте! Караул, что ли, бы приставили, хоть запереть дали бы…
Несколько купцов столпилось около офицера.«БЕГ»
Пьеса, имеющая подзаголовок «Восемь снов». При жизни Булгакова не ставилась. Был опубликован только один отрывок из Б. - седьмой сон со сценой карточной игры у Корзухина: Красная газета. Вечерний выпуск, Л., 1932,1 окт. Впервые: Булгаков М. Пьесы, М.: Искусство, 1962. Работу над текстом Булгаков начал в 1926 г. Замысел пьесы был связан с воспоминаниями второй жены драматурга Л. Е. Белозерской об эмигрантской жизни и с мемуарами бывшего белого генерала Я. А. Слащева «Крым в 1920 г.» (1924), а также рядом других исторических источников, где рассказывалось о завершении гражданской войны в Крыму осенью 1920 г. В апреле 1927 г. был заключен договор с МХАТом, по которому Булгаков обязался представить не позднее 20 августа 1927 г. пьесу «Рыцарь Серафимы» («Изгои»). Тем самым драматург погашал аванс, выданный 2 марта 1926 г. за будущую постановку инсценировки «Собачьего сердца», не осуществленную из-за запрещения повести. Рукопись «Рыцаря Серафимы» (или «Изгоев») не сохранилась. 1 января 1928 г. Булгаков заключил новый договор с МХАТом. Теперь пьеса называлась Б. 16 марта 1928 г. драматург сдал ее в театр. 16 апреля 1928 г. на художественном совете МХАТа было запланировано начать в будущий сезон работу по постановке Б. Однако 9 мая 1928 г. Главрепертком признал Б. «неприемлемым» произведением, поскольку автор никак не рассматривал кризис мировоззрения тех персонажей, которые принимают Советскую власть, и политическое оправдание ими этого шага. Цензура сочла также, что белые генералы в пьесе чересчур героизированы, и даже глава крымской контрреволюции Врангель будто бы по авторской характеристике «храбр и благороден». На самом деле у Булгакова в первой редакции Б. белый Главнокомандующий, в котором легко узнаваем главнокомандующий Русской армией в Крыму генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель (1878-1928) (журнальная вырезка с фотографией его похорон сохранилась в булгаковском архиве), в портретной ремарке описывался следующим образом: «На лице у него усталость, храбрость, хитрость, тревога» (но никак не благородство). Кроме того, Главреперткому очень не понравилась «эпизодическая фигура буденновца в 1-й картине, дико орущая о расстрелах и физической расправе», что будто бы «еще более подчеркивает превосходство и внутреннее благородство героев белого движения» (иного изображения врагов, чем простая карикатура, цензоры решительно не признавали). Театр вынужден был потребовать от автора переделок Б. На сторону пьесы встал Максим Горький (А.М.Пешков) (1868-1936). 9 октября 1928 г. на заседании художественного совета он высоко отозвался о Б.: «Чарнота - это комическая роль, что касается Хлудова, то это больной человек. Повешенный вестовой был только последней каплей, переполнившей чашу и довершившей нравственную болезнь.
Со стороны автора не вижу никакого раскрашивания белых генералов. Это - превосходнейшая комедия, я ее читал три раза, читал А.И.Рыкову (председателю Совнаркома. - Б.С.) и другим товарищам. Это - пьеса с глубоким, умело скрытым сатирическим содержанием...
«Бег» - великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас».
Между тем, ранее на том же обсуждении режиссер Б. Илья Яковлевич Судаков (1890-1969) сообщил, что при участии автора достигнуто соглашение с Главреперткомом о направлении изменений в тексте пьесы: «Сейчас в пьесе Хлудов уходит только под влиянием совести (достоевщина)... Хлудова должно тянуть в Россию в силу того, что он знает о том, что теперь делается в России, и в силу сознания, что его преступления были бессмысленны». Сторонники Б. стремились представить пьесу прежде всего как сатирическую комедию, обличавшую белых генералов и белое дело в целом, несколько отодвигая на второй план трагедийное содержание образа генерала Хлудова, прототипом которого послужил вернувшийся в Советскую Россию Я. А. Слащев. Интересно, что изменения, намеченные И.Я.Судаковым в отношении мотивов возвращения главного героя на родину, на самом деле оказались ближе к реальным мотивам Я.А.Слащева, но художественно обедняли фигуру Хлудова. 11 октября 1928 г. в «Правде» появилось сообщение, что Главрепертком разрешил МХАТу приступить к репетиции Б. при условии некоторых изменений текста, и репетиции в тот же день начались. Однако 13 октября Горький уехал на лечение в Италию, а 22 октября на расширенном заседании политико-художественного совета Реперткома по поводу Б. пьесу отклонили. В результате 24 октября было объявлено о запрещении постановки. В печати начали кампанию против Б., хотя авторы статей часто даже не были знакомы с текстом пьесы. 23 октября 1928 г. «Комсомольская правда» напечатала подборку «Бег назад должен быть приостановлен». Хлесткие названия фигурировали и в других газетах и журналах: «Тараканий набег», «Ударим по булгаковщине». Позднее эти заголовки, как и многие другие, были блестяще спародированы в кампании против романа Мастера в «Мастере и Маргарите».
2 февраля 1929 г. И.В.Сталин, отвечая на письмо драматурга Владимира Наумовича Билль-Белоцерковского (1884/85-1970), дал резко отрицательную оценку Б.: ««Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, - стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. «Бег», в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление.
Впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему «честные», Серафимы и всякие приват-доценты, оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою «честность»), что большевики, изгоняя вон этих «честных» сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно». Вождь интеллигенцию очень не любил, «всяких приват-доцентов», это хорошо чувствуется по тону письма, и общий язык с писателем, ставившим своей главной задачей (в письме правительству, т.е. тому же Сталину, 28 марта 1930 г.) «упорное изображение русской интеллигенции, как лучшего слоя в нашей стране», лидер большевиков найти не мог. Сталинские пожелания насчет Б. были для Булгакова неприемлемы, хотя естественным образом совпадали с рекомендациями Главреперткома. Режиссер же спектакля И.Я.Судаков, в попытке спасти полюбившуюся мхатовцам пьесу, готов был принять многие цензурные требования. Так, на заседании 9 октября 1928 г. он высказал мнение, что Серафима Корзухина и приват-доцент Голубков, интеллигенты, оказавшиеся в эмиграции вместе с белой армией, должны «возвращаться не для того, чтобы увидать снег на Караванной, а для того, чтобы жить в РСФСР». Ему справедливо возражал начальник Главискусства А.И.Свидерский (1878-1933), склонявшийся к разрешению Б.: «Идея пьесы - бег, Серафима и Голубков бегут от революции, как слепые щенята, как бежали в ту полосу нашей жизни тысячи людей, а возвращаются только потому, что хотят увидеть именно Караванную, именно снег, - это правда, которая понятна всем. Если же объяснить их возвращение желанием принять участие в индустриализации страны - это было бы несправедливо и потому плохо». Однако после сталинского вердикта перспективы постановки Б. стали совсем призрачными.
МХАТ попытался вернуться к вопросу о булгаковской пьесе, последняя репетиция которой состоялась 25 января 1929 г. (тогда еще не верили, что действительно последняя), в 1933 г. До этого, правда, театр успел 14 октября 1929 г. расторгнуть договор с Булгаковым и потребовать назад аванс (в счет погашения этого долга драматург начал работу над пьесой «Кабала святош»). Также не имела последствий попытка постановки Б. в Ленинградском Большом Драматическом Театре, договор с которым был заключен 12 октября 1929 г. 2 февраля 1933 г. на совещании во МХАТе по поводу плана предстоящего сезона вновь возник вопрос о Б. 10 марта начались репетиции, а 29 апреля 1933 г. с Булгаковым заключили новый договор, и драматург начал переработку текста. Направление переделок было определено в разговоре И.Я.Судакова с председателем Главреперткома, критиком и драматургом Осафом Семеновичем Литовским (1892-1971), изложившим требования цензуры. Судаков передал их в письме Дирекции МХАТа 27 апреля 1933 г.: «...Для разрешения пьесы необходимо в пьесе ясно провести мысль, что белое движение погибло не из-за людей хороших или плохих, а вследствие порочности самой белой идеи». В договоре автору была вменена обязанность сделать следующие изменения:
«а) переработать последнюю картину по линии Хлудова, причем линия Хлудова должна привести его к самоубийству как человека, осознавшего беспочвенность своей идеи;
б) переработать последнюю картину по линии Голубкова и Серафимы так, чтобы оба эти персонажа остались за границей;
в) переработать в 4-й картине сцену между главнокомандующим и Хлудовым так, чтобы наилучше разъяснить болезнь Хлудова, связанную с осознанием порочности той идеи, которой он отдался, и проистекавшую отсюда ненависть его к главнокомандующему, который своей идеей подменял хлудовскую идею» (здесь в тексте договора имеется вписанное рукой Булгакова разъяснение: «Своей узкой идеей подменял широкую Хлудова»).
29 июня 1933 г. драматург послал И.Я.Судакову текст исправлений. 14 сентября 1933 г. он писал по этому поводу брату Н.А.Булгакову в Париж: «В «Беге» мне было предложено сделать изменения. Так как изменения эти вполне совпадают с первым моим черновым вариантом и ни на йоту не нарушают писательской совести, я их сделал». Вероятно, под черновым вариантом имеется в виду не дошедшая до нас рукопись «Рыцарей Серафимы», так что сегодня невозможно точно сказать, в чем именно требуемые поправки совпадали с первоначальным авторским замыслом. Однако к 1933 г. у Булгакова появились веские внутренние, а не только цензурные основания для существенной переработки первой редакции Б.
Если в 1926-1928 гг. пьесы Булгакова еще не были запрещены и с успехом шли на сцене, то к 1933 г. сохранились одни «Дни Турбиных», а общее ужесточение цензуры и требований идеологического единомыслия, происшедшее с конца 20-х годов, делало призрачными возможности возрождения какой-то цивилизованной жизни, с надеждами на которую возвращались в Россию Голубков, Серафима и сам Хлудов. Теперь первым двум логичнее было бы остаться в эмиграции, а бывшему генералу - покончить с собой. Да и судьба хлудовского прототипа к тому моменту уже получила свое трагическое завершение. В январе 1929 г. Я.А.Слащев был застрелен у себя на квартире родственником одной из своих многочисленных жертв. В жизни призрак невинно убиенного вестового Крапилина убил-таки генерала, вполне естественно было заставить его сделать это и в пьесе. Кроме того, к 1933 г. Булгаков, возможно, уже ознакомился с воспоминаниями П. Н. Врангеля, вышедшими в 1928-1929 гг. в берлинском альманахе «Белое дело». Там Я.А.Слащев характеризовался крайне негативно, с подчеркиванием болезненных элементов его сознания, хотя военный талант генерала не ставился под сомнение. Врангель дал такой портрет Слащева, который, вероятно, повлиял на образ Хлудова последних редакций Б.: «Слезы беспрерывно текли по щекам. Он вручил мне рапорт, содержание которого не оставляло сомнения, что передо мной психически больной человек. Он упоминал о том, что «вследствие действий генерала Коновалова, явилась последовательная работа по уничтожению 2-го корпуса и приведение его к лево-социал-революционному знаменателю»... Рапорт заканчивался следующими словами: «как подчиненный ходатайствую, как офицер у офицера прошу, а как русский у русского требую назначения следствия над начальником штаба главнокомандующего, начальником штаба 2-го корпуса и надо мной...» Не менее красочно описал Врангель свой визит к Слащеву: «В вагоне царил невероятный беспорядок. Стол, уставленный бутылками и закусками, на диванах - разбросанная одежда, карты, оружие. Среди этого беспорядка Слащев, в фантастическом белом ментике, расшитом желтыми шнурами и отороченном мехом, окруженный всевозможными птицами. Тут были и журавль, и ворон, и ласточка, и скворец. Они прыгали по столу и диванам, вспархивали на плечи и на голову своего хозяина (не исключено, что под влиянием именно этого сообщения Врангеля Булгаков в «Мастере и Маргарите» переиначил на свой манер водевильную песенку, которую Коровьев-Фагот заставляет «врезать» после скандального сеанса в Театре-Варьете: «Его превосходительство любил домашних птиц // И брал под покровительство хорошеньких девиц». - Б.С.).
Я настоял на том, чтобы генерал Слащав дал осмотреть себя врачам. Последние определили сильнейшую форму неврастении, требующую самого серьезного лечения».
Болезнь Слащева, как видим, была связана не с муками совести за бессудные казни, а с перешедшими в манию подозрениями, что он будто бы окружен «социалистическими заговорщиками», в том числе и в штабе своего 2-го армейского корпуса. Теперь задача свести возвращение Хлудова не к мукам совести, а к политическому осознанию правоты Советской власти, отпадала. Психическое расстройство генерала приводило его к самоубийству, причем в некоторых вариантах финала он еще, перед тем, как застрелиться, выпускал обойму своего револьвера в зрителей тараканьих бегов. «Сменовеховство», которое олицетворял Слащев (и Хлудов), к 30-м годам уже давно было мертво, а Советской власти больше не требовалось добровольное и осознанное признание со стороны интеллигенции как внутри страны, так и в эмиграции. Ныне действовал принцип римского императора Калигулы (12-41): «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Цензуру в новых условиях более удовлетворяло самоубийство Хлудова и остающиеся в эмиграции Серафима с Голубковым, причем подобный финал уже представлялся наиболее обоснованным и самому драматургу. Аргумент И.Я.Судакова, обращенный к противникам Б. в 1929 г.: «Какой же вам еще победы надо, если вы одержали победу над Слащевым, который работает у вас в академии», к 1933 г. окончательно потерял свою силу.
При всем этом финал первой редакции Б., с возвращением Хлудова на родину, по общему мнению окружающих, был гораздо сильнее в художественном отношении. В этом были солидарны первая жена Булгакова Л.Е.Белозерская, его вторая жена Е.С.Булгакова и близкий друг драматург Сергей Ермолинский (1900-1984). Осенью 1937 г., когда вновь встал вопрос о постановке Б. и автор работал над новыми вариантами финала, Е.С.Булгакова 30 сентября записала в дневнике: «Вечером доказывала Мише, что первый вариант - без самоубийства Хлудова - лучше. (Но М. А. не согласен)». Вариант с возвращением Хлудова предпочитал и драматург Александр Афиногенов (1904-1941), согласно записи Е.С., сказавший 9 сентября 1933 г. Булгакову: «Читал ваш «Бег», мне очень нравится, но первый финал был лучше. - Нет, второй финал лучше» (с выстрелом Хлудова). Действительно, финал первой редакции Б., где муки совести главного героя разрешались не традиционным самоубийством, а весьма нетривиально: возвращением на родину - место былых преступлений, что символизировало готовность принять любой приговор, был гораздо интереснее, представлял собой художественную новацию.
В 1933 г. МХАТ продолжал всерьез готовиться к постановке Б. Художник В.В.Дмитриев (1900-1948) работал над декорациями, а 11 октября 1933 г. даже обсуждалось, в присутствии Булгакова, музыкально-шумовое оформление будущего спектакля. Прошел еще год. 8 ноября 1934 г. Булгаков получил сведения, что Б. как будто разрешен и начинается распределение ролей. 9 ноября он написал новый вариант финала, с самоубийством Хлудова, расстрелявшего предварительно тараканьи бега, и с возвращением в Россию Серафимы и Голубкова. Однако 21 ноября 1934 г. драматург узнал о новом запрете Б.
Последний раз Булгаков вернулся к тексту пьесы после того, как 26 сентября 1937 г. узнал, что Комитет по делам искусств просит прислать экземпляр Б. 1 октября переделка была завершена, и Б. отдан в Комитет искусств. Однако тем дело и кончилось. 5 октября 1937 г., не получив из МХАТа никаких известий насчет пьесы, Булгаков, согласно записи в дневнике жены, пришел к абсолютно правильному, хотя и печальному выводу: « - Это означает, что «Бег» умер». Более попыток постановки пьесы при жизни драматурга не предпринималось.
Осенью 1937 г. Булгаков написал два варианта финала Б., не указав, какой из них предпочтительней. В одном из них, как и в редакции 1926-1928 гг., Хлудов, Голубков и Серафима возвращались на родину. Другой вариант предусматривал самоубийство Хлудова (с расстрелом «тараканьего царства»), но, в отличие от варианта 1933 г., Голубков и Серафима возвращались в Россию, а не уезжали во Францию, и не называли себя больше изгоями. Вероятно, Булгаков так и не преодолел колебания между сознанием наибольшей художественной убедительности финала с возвращением Хлудова и цензурным требованием, подкрепленным собственными настроениями, самоубийства главного героя. Что же касается судьбы Серафимы и Голубкова, то она, очевидно, уже потеряла в 1937 г. свою актуальность с точки зрения цензуры, а сам Булгаков склонялся к тому, чтобы все-таки вернуть их на родину. Интересно, что уже после смерти Булгакова Комиссия по литературному наследству писателя 4 мая 1940 г. приняла решение о публикации Б., выбрав вариант финала с возвращением Хлудова. Тогда только что закончилась война с Финляндией и приближалась война с Германией, советская власть и Сталин опять брали на вооружение патриотическую идею, поэтому возвращение бывшего генерала, объединение эмиграции вокруг коммунистической метрополии вновь стало актуальным и цензурно предпочтительным.
Один из ревностных гонителей Булгакова критик Осаф Семёнович Литовский (1892-1971), возглавлявший в 1932-1937 годах Главрепертком, а после войны попавший в лагерь в рамках кампании по борьбе с «космополитизмом», в книге мемуаров «Так было» (1958) следующим образом подвел итоги цензурной эпопеи Б.: ««Голых» административных запрещений в советское время, за редким исключением, не бывало. Даже такая явно порочная пьеса, как «Бег» Булгакова, не отбрасывалась, и предпринимались всяческие попытки сделать ее достоянием театра.
Очень долго, еще до начала моей работы в ГУРКе, тянулась история с разрешением и запрещением «Бега» органами контроля, но Булгаков упорно не пожелал исправлять пьесу.
Многие и поныне существующие поклонники Булгакова полагают, что «Бег» - пьеса революционная, яркий рассказ об эмигрантском разложении.
Что же, по форме, по сюжетным ходам в «Беге» все более чем ортодоксально. Безостановочный бег белогвардейских разгромленных армий закончился только у берегов Черного моря: последние корабли Антанты развозили в разные страны потерпевших крах «патриотов». И верно, что за рубежом российские эмигранты для поддержания своей жизни устраивали тараканьи бега. Верно, что генералы открывали публичные дома, а великосветские дамы составляли их первую клиентуру (скорее не клиентуру, а рабочую силу, трудившуюся в поте лица. – Б. С.).
Когда-то А.Н.Толстой поведал мне о страшном эпизоде из эмигрантской жизни в Константинополе, случае в кабаре, свидетелем которого он сам был.
На сцене разыгрывалось совершенно непристойное зрелище: погоня обнаженного негра за белой обнаженной женщиной. И вот сидевшая рядом с Толстым белоэмигрантская девица, служащая этого заведения, с возмущением нашептывала Толстому в ухо: «Интриги, ей-богу, интриги, Алексей Николаевич! Я эту роль играла гораздо лучше!»
Хотя Булгаков не показывает этой крайней степени падения, но парижские сцены у генерала Хлудова и Чарноты стоят этого эротического ревю (вероятно, до Булгакова тоже дошел этот рассказ Толстого, который, скорее всего, стал одним из источников Великого бала у сатаны, где в коньяке купаются нагие «затейница-портниха», восходящая к главной героине «Зойкиной квартиры», и «ее кавалер, неизвестный молодой мулат». – Б.С.).
По Булгакову, Хлудов, прототипом которого был крымский вешатель-палач генерал Слащев, разуверившийся в возможности победы и забрызганный кровью сотен и тысяч лучших сынов рабочего класса и нашей партии, решил пострадать «за правду», искупить свою вину. И для этого он перешел границу и отдался в руки советской разведки.
Как будто все хорошо. Но тема Хлудова, как и тема реально существовавшего Слащева, отнюдь не признание большевистской правды, а крах несостоявшихся мечтаний.
Да, как и Слащев, хлудовы являлись к советским властям с повинной головой, но только потому, что поняли, что вместе с казнокрадами, трусами, распутными и распущенными офицерами и добровольцами им не создать новой России – России в белых ризах. Это был шаг отчаяния, потому что в жизни, на самом деле Хлудов-Слащев и Врангеля считал слишком либеральным.
Как известно, Слащев увозил из врангелевских тюрем томившихся там большевиков-революционеров к себе в ставку и там расправлялся своим судом, а именно: «развешивал» большевиков, рабочих и революционных подпольщиков по всей дороге – от ставки до Симферополя.
Нет, по Булгакову, Хлудов не виноват, что его постиг такой крах. Он, сам Хлудов, хотел лучшего, надеялся на чудо. И его переход советской границы есть не больше как способ покончить с собой не собственной рукой.
Можно думать, что, будь побольше таких хлудовых и кавалерийских удальцов чарнот и не замерзни Сиваш слишком рано в этом году, – красным не удалось бы взять Крыма.
Можно ли было подойти к такому произведению «по форме»? Нет, конечно. По форме в нем все совершенно благополучно: крах белогвардейщины представлен, можно сказать, в развернутом виде, и раскаяние хлудовых выглядело очень жестоким. Тараканьи бега отвращали.
А на деле это была инсценированная панихида по белому движению». В чем-то данному заключению не откажешь в точности.
Но вопреки широко распространенному убеждению современников и потомков, главная проблема Б. - это не проблема крушения белого дела и судеб эмиграции. В упомянутом выше разговоре с А. Н. Афиногеновым 9 сентября 1933 г. Булгаков заявил: «Это вовсе пьеса не об эмигрантах...». Действительно, даже в 1926 г., которым Булгаков датировал начало работы над Б., проблемы идеологии канувшего в Лету белого движения или только что почившего сменовеховства (в связи с закрытием в мае 1926 г. сменовеховского журнала «Россия» и высылкой за границу его редактора И. Г. Лежнева (Альтшуллера) (1891-1955) у Булгакова был произведен обыск) не могли быть актуальными. Замысел Б., вероятно, зародился у Булгакова еще в самом конце 1924 г. В дневниковой записи в ночь с 23 на 24 декабря он вспомнил ночной бой за Шали-аулом в ноябре 1919 г. Булгаков запечатлел картину своей контузии под дубом и «полковника, раненного в живот»:
Бессмертье - тихий светлый брег...
Наш путь - к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег,
Вы, странники терпенья...
Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19-го года во время похода за Шали-аул, и последнюю фразу сказал мне так: - Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик.
Меня уже контузили через полчаса после него.
Так вот, я видел тройную картину. Сперва - этот ночной ноябрьский бой, сквозь него - вагон, когда уже об этом бое рассказывал, и этот, бессмертно-проклятый зал в «Гудке». «Блажен, кого постигнул бой». Меня он постигнул мало, и я должен получить свою порцию».
Характерно, что далее в записи осуждаются организованные коммунистами забастовки во Франции и деятельность там советского посольства, которую писатель рассматривал как направленную на разжигание в стране революции и гражданской войны. Симпатии Булгакова явно были на стороне белых - противников большевиков. Цитированные строки (без последней) из стихотворения Василия Жуковского (1783-1852) «Певец во стане русских воинов» (1812) стали эпиграфом к Б. Булгаков стремился оценить все стороны гражданской войны объективно и, как он писал в письме правительству 28 марта 1930 г., «СТАТЬ БЕССТРАСТНО НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ». Эпиграф символизировал окончание эпохи революции и гражданской войны, Булгаков смотрел на нее уже из другого времени. Образ безымянного полковника отразился не только в бесстрашном полковнике Най-Турсе из романа «Белая гвардия» и наследовавшем ему полковнике Турбине из пьесы «Дни Турбиных», но и в словах, которые в Б. произносит Хлудов: «Я в ведрах плавать не стану, не таракан, не бегаю! Я помню снег, столбы, армии, бои! И все фонарики, фонарики. Хлудов едет домой» (в позднейших вариантах: «Хлудов пройдет под фонариками» - намек на широко применявшееся повешение на фонарях, на то, что Хлудов возвращается в те места, где вешал). Булгаков тоже вспоминал о прошлых боях как о чем-то гораздо более возвышенном, чем суровая поденщина в «Гудке». Он вполне мог сказать как генерал Чарнота, у которого, в отличие от Хлудова, не было на совести казней в тылу: «Я давно, брат, тоскую! Мучает меня черторой, помню я лавру! Помню бои!» В замысле Б. важную роль сыграла статья писателя Александра Дроздова (1895-1963) «Интеллигенция на Дону», опубликованная в 1922 г. во втором томе берлинского «Архива русской революции». Самого А.М.Дроздова, «сменившего вехи», Булгаков в дневниковой записи 26 октября 1923 г. аттестовал «мерзавцем» за готовность в эмиграции сначала предложить свои услуги черносотенным монархистам вроде Н.Е.Маркова 2-го, а затем столь же охотно вступить в просоветскую редакцию «Накануне». В «Интеллигенции на Дону» Булгакова привлекло, несомненно, то место, где рассказывалось о крахе армии генерала А. И. Деникина (1872-1947) и последующей судьбе той части интеллигенции, которая была связана с белым движением на Юге России: «Но грянул час - и ни пушинки не осталось от новой молодой России, так чудесно и свято поднявшей трехцветный патриотический флаг. Все, что могло бежать, кинулось к Черному морю, в давке, среди стонов умирающих от тифа, среди крика раненых, оставшихся в городе для того, чтобы получить удар штыка озверелого красноармейца. Ах, есть минуты, которых не простит самое любящее сердце, которых не благословит самая кроткая рука! Поля лежали сырые и холодные, сумрачные, почуя близкую кровь, и шла лавина бегущих, упорная, озлобленная, стенающая, навстречу новой оскаленной безвестности, навстречу новым судьбам, скрывшим в темноте грядущего свое таинственное лицо. И мелким шагом шла на новые места интеллигенция, неся на плечах гробишко своей идеологии, переломленной пополам вместе со шпагой генерала Деникина. Распались дружеские путы, связавшие ее в моменты общего стремления к Белокаменной - и вот пошли бродить по блестящей, опьяненной победою Европе толпы Вечных Жидов, озлобленных друг на друга, разноязыких, многодушных, растерянных, многое похоронивших назади, ничего не унесших с собой, кроме тоски по России, бесславной и горючей». В финале Б. со схожими словами обращается к уезжающим в Россию Голубкову и Серафиме генерал Чарнота: «Так едете? Ну, так нам не по дороге. Развела ты нас судьба, кто в петлю, кто в Питер, а я, как Вечный Жид, отныне... Голландец я! Прощайте!» Для «потомка запорожцев» бег из Крыма в Константинополь, из Константинополя в Париж и обратно продолжается; для Голубкова, Серафимы и Хлудова он окончен.
Предшественником Хлудова в булгаковском творчестве был безымянный белый генерал из рассказа «Красная корона» (1922). К нему по ночам приходит призрак повешенного в Бердянске рабочего (возможно, этого казненного Булгакову довелось видеть самому). Трудно сказать, насколько в образе генерала из «Красной короны» мог отразиться прототип Хлудова Я. А. Слащев. Он к тому времени не успел еще выпустить мемуары «Крым в 1920 г.», но уже вернулся в Советскую Россию, чему в 1921 г. газеты уделили немало внимания. Слащев еще в Константинополе издал книгу «Требую суда общества и гласности» о своей деятельности в Крыму. С этой книгой автор Б. вполне мог быть знаком. Процитированные здесь грозные слащевские приказы могли повлиять на образ генерала-вешателя из «Красной короны».
В Б. Хлудов выступает непосредственным предшественником Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите». Этот роман был начат Булгаковым в 1929 г., сразу по окончании первой редакции пьесы, а задуман параллельно с ней - в 1928 г. В Б. главный упор сделан не на анализ уроков гражданской войны самих по себе, а на философское осмысление цены крови вообще, казни невинных во имя идеи - и морального наказания (в виде мук совести) за это преступление. По цензурным соображениям в Б. речь идет о белой идее, и именно как ее носителя Чарнота обвиняет Хлудова в своей незавидной эмигрантской судьбе. Однако с тем же успехом образ Хлудова можно спроецировать на любую другую идею, коммунистическую или даже христианскую, во имя которых в истории тоже были пролиты реки невинной крови (о христианской идее и пролитой за нее крови позднее в «Мастере и Маргарите» будут говорить Левий Матвей и Понтий Пилат). Отметим, что финал с самоубийством Хлудова смотрится в свете этого достаточно искусственно. Ведь в тексте остались слова главного героя о том, что он решился вернуться в Россию, пройти под «фонариками», причем в результате «тает мое бремя», и генерала отпускает призрак повешенного Крапилина. Раскаяние и готовность ответить за преступление перед людьми, даже ценой возможной казни, по Булгакову, приносит искупление и прощение. Понтий Пилат лишен возможности предстать перед иным судом, кроме суда своей совести, за казненного Иешуа Га-Ноцри, который может осудить своих палачей лишь на страдания нечистой совести, но не на земное наказание. Поэтому в финале «Мастера и Маргариты» не вполне ясно, совершил ли прокуратор Иудеи самоубийство, бросившись в горную пропасть, или просто обречен после смерти в месте своей ссылки на муки совести за трусость, приведшую к казни невинного. При этом Понтию Пилату Булгаков все же дарует прощение устами Мастера. Не исключено, что именно в связи с развитием образа Пилата в 1937 г. писатель так и не выбрал между двумя вариантами финала Б. - с самоубийством или с возвращением Хлудова, который уже рассматривался как некий двойник прокуратора Иудеи.
В первой редакции Б. Хлудов перед знаменитой своей сентенцией: «Нужна любовь. Любовь. А без любви ничего не сделаешь на войне», цитировал известный приказ Л.Д.Троцкого: «Победа катится по рельсам...», угрожая повесить начальника станции, если тот не сумеет отправить вовремя бронепоезд. Здесь - дальнейшее развитие мысли полковника Алексея Турбина («Народ не с нами. Он против нас»), что всякая идея может стать действенной, только обретя поддержку масс, здесь и «оборачиваемость» красной и белой идей: Хлудов, как и Слащев, как и мало отличавшийся в этом отношении от хлудовского прототипа Врангель, спокойной жестокостью и военно-организационным талантом подобен Председателю Реввоенсовета и главе Красной Армии Л.Д.Троцкому (разве что жестокость Врангеля и Троцкого более расчетлива, чем у Слащева).
Не исключено, что Булгаков наградил Хлудова и собственными переживаниями, только не из-за убийства невинного, а в связи с тем, что не смог предотвратить гибель человека. В «Красной короне», где главный герой становится двойником генерала, мучаясь после смерти брата, в рассказах «Я убил» и «В ночь на 3-е число», в романе «Белая гвардия» персонажи, имеющие очевидные автобиографические корни, испытывают сходные муки совести. Когда и как могла произойти такая трагедия в жизни драматурга, вряд ли удастся достоверно установить. Возможно, что переживания были связаны с гибелью безымянного полковника, которому врач Булгаков был бессилен помочь под Шали-аулом. Воспоминания об этом событии послужили, вне всякого сомнения, важным толчком к созданию Б.
Автобиографические мотивы в пьесе связаны также с образами Голубкова и Серафимы. Голубков - это анаграмма фамилии Булгаков. Данный персонаж, вероятно, отразил раздумья автора Б. о возможности эмиграции, не покидавшие его вплоть до начала 30-х годов. Серафима Корзухина, как можно предположить, наделена некоторыми переживаниями Л.Е.Белозерской в эмигрантскую пору ее жизни. Однако есть и другие прототипы. Приват-доцент, сын профессора-идеалиста Сергей Голубков заставляет вспомнить о выдающемся философе-идеалисте и богослове С.Н.Булгакове, как и отец писателя, имевшем профессорское звание. Голубков в первой редакции Б. вспоминает о своей жизни в Киеве: «Очевидно, пещеры, как в Киеве. Вы бывали когда-нибудь в Киеве, Серафима Владимировна?» А в Киеве жил не только автор пьесы, но и С. Н. Булгаков. Последний, как и булгаковский герой, в конце гражданской войны оказался в Крыму и в декабре 1922 г. был выслан из Севастополя в Константинополь. Голубков вспоминает и Петербург, где философу С.Н.Булгакову тоже довелось преподавать. Приват-доцент в Б. несет функцию философского осмысления проблемы «интеллигенция и революция», которую его знаменитый прототип пытался решить в статьях, опубликованных в сборниках «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1921). Только Голубков - сниженное подобие великого мыслителя и проблему решает достаточно конформистски, возвращаясь в Россию и мирясь с большевиками. Прототипом Серафимы Корзухиной, возможно, послужила хозяйка литературного объединения «Никитинские субботники» Евдоксия Федоровна Никитина (1895-1973), муж которой, А. М. Никитин (1876 - после 1920), был министром Временного правительства, а в 1920 г. вместе с деникинской армией отступал к морю. С Никитиной посещавший литературные вечера «Никитинских субботников» Булгаков был хорошо знаком. Но основным прототипом мужа Серафимы Парамона Ильича Корзухина, по свидетельству Л.Е.Белозерской, послужил другой человек. Это был ее хороший знакомый петербургский литератор и предприниматель-миллионер Владимир Пименович Крымов (1878-1968), происходивший из сибирских купцов-старообрядцев. В своих мемуарах «О, мед воспоминаний» Л.Е.Белозерская сообщала о нем: «Из России уехал, как только запахло революцией, «когда рябчик в ресторане стал стоить вместо сорока копеек - шестьдесят, что свидетельствовало о том, что в стране неблагополучно», - его собственные слова. Будучи богатым человеком, почти в каждом европейском государстве приобретал недвижимую собственность, вплоть до Гонолулу...
Сцена в Париже у Корзухина написана под влиянием моего рассказа о том, как я села играть в девятку с Владимиром Пименовичем и его компанией (в первый раз в жизни!) и всех обыграла». Не исключено, что сама фамилия прототипа подсказала Булгакову поместить восходящего к нему Парамона Ильича Корзухина в Крым. До революции Крымов окончил Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию, издавал «великосветский» журнал «Столица и усадьба», написал интересную книгу о своем кругосветном путешествии, совершенном после Февральской революции в России, «Богомолы в коробочке», в эмиграции создал тетралогию «За миллионами» (1933-1935), пользовавшуюся большим успехом у читателей. Он писал также авантюрные романы и детективы, переводившиеся на английский и другие иностранные языки. Будучи человеком очень богатым, оказывал материальную помощь нуждавшимся эмигрантам. После прихода к власти нацистов в 1933 г. эмигрировал из Германии во Францию, где в Шату под Парижем приобрел виллу, ранее принадлежавшую знаменитой шпионке Мата Хари (голландской танцовщице Маргарите Целле (1876-1917)), расстрелянной французскими властями по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Одно время Крымов был близок «сменовеховцам», что не прибавило ему булгаковских симпатий. В целом же прототип булгаковского Корзухина был совсем не плохой человек, отнюдь не зациклившийся на процессе делания денег и не лишенный литературных способностей. Но герой Б. превратился в символ стяжателя. Неслучайно только сцена из пьесы, содержащая его «балладу о долларе» (в несохранившемся черновом варианте «Рыцарь Серафимы» ей противопоставлялась «баллада о маузере», которую, вероятно, произносил буденновец Баев), увидела свет при жизни Булгакова в 1932 г., не встретив цензурных препятствий. Париж озаряется в балладе золотым лучом доллара рядом с химерой собора Нотр-Дам. Открытка с изображением этой химеры, привезенная Л. Е. Белозерской, была в архиве Булгакова. В «Мастере и Маргарите» в позе химеры Нотр-Дам сидит Воланд на крыше Пашкова дома, так что в «балладе о долларе» химера символизирует дьявола, которому продал за золото душу Корзухин. Неизвестный солдат, погибший за доллар, - это олицетворение мефистофелевского «люди гибнут за металл». Крымов никакими инфернальными чертами, разумеется, не обладал, характеристика, которую дает Корзухину Голубков: «вы самый омерзительный, самый бездушный человек, которого я когда-либо видел», - к нему вряд ли применима. Интересно, что имя и отчество прототипа - Владимир Пименович трансформировались в имя и отчество персонажа через... имя и отчество вождя мирового пролетариата. Редкое старообрядческое имя Парамон заменило такое же редкое отчество Пименович, а имени Владимир у Корзухина соответствует пресловутый Ильич. В.И.Ленин предлагал в статье «О значении золота теперь и после полной победы социализма» (1921) в будущем коммунистическом обществе сделать из золота сортиры, Корзухин в Б., напротив, делает из золотого доллара вселенского кумира. Следует подчеркнуть, что эта ленинская статья была впервые опубликована в «Правде» 6-7 ноября 1921 г. Именно из этого номера Булгаков вырезал сохранившиеся в его архиве воспоминания А.В.Шотмана о Ленине, отразившиеся позднее в «Мастере и Маргарите».
Для того чтобы, минуя цензуру, попытаться осмыслить гражданскую войну с некоммунистических позиций, часто приходилось прибегать к такому «эзопову языку», который был понятен лишь очень узкому кругу лиц. В Б. есть очень мощный пласт национальной самокритики, не замечаемый подавляющим большинством читателей и зрителей. Он ярче всего выражен в первой редакции пьесы и связан с одним из прототипов генерала Чарноты.
Единственный опубликованный при жизни Булгакова «седьмой сон» представляет собой сцену карточной игры в Париже миллионера, бывшего врангелевского министра Парамона Ильича Корзухина, и кубанского генерала Григория Лукьяновича Чарноты. Чарноте сопутствует абсолютно фантастическая удача, и он выигрывает у Корзухина всю наличность – десять тысяч долларов. Характерная деталь: к бывшему министру бывший генерал приходит в буквальном смысле слова без штанов: в черкеске и кальсонах, поскольку штаны пришлось продать во время голодного путешествия из Константинополя в Париж. Между тем известен рассказ польского писателя Стефана Жеромского (1864-1925) своему другу театральному и литературному критику Адаму Гржмайло-Седлецкому (1876-1948) о его встрече с будущим главой Польского государства Юзефом Пилсудским (1867-1935) еще до первой мировой войны, когда будущий руководитель польского государства и первый маршал Польши жил в Закопане в крайней бедности. Вот как данный рассказ был изложен в дневниковой записи Гржмайло-Седлецкого, сделанной в 1946 г.: «Это была пролетарская нищета. Я застал его сидящим за столом и раскладывающим пасьянс. Он сидел в кальсонах, поскольку единственную пару брюк, которую он имел, отдал портному заштопать дыры». Когда Жеромский спросил о причинах волнения, с которым Пилсудский раскладывает пасьянс, тот ответил: «Я загадал: если пасьянс разложится удачно, то я буду диктатором Польши». Жеромский был потрясен: «Мечты о диктатуре в халупе и без порток поразили меня».
Характерно, что разговор Жеромского с Гржмайло-Седлецким происходил зимой 1917 г., когда до независимости Польши и установления там диктатуры Пилсудского было еще далеко. Неизвестно, как этот рассказ дошел до Булгакова. Публиковали ли его в 20-е годы Жеромский или Гржмайло-Седлецкий в печати, мне пока что выяснить не удалось. Нельзя исключить также, что Жеромский рассказывал эту историю с Пилсудским не только Гржмайло-Седлецкому, но и другим своим знакомым, и от них каким-то образом она могла дойти и до Булгакова. Стоит учесть, что один из друзей Булгакова в 20-е годы известный писатель Юрий Карлович Олеша (1899-1960) был поляком и имел знакомства в польской культурной среде как в СССР, так и в Польше.
Мечты Пилсудского, как известно, полностью осуществились. В ноябре 1918 года он возглавил возрожденную Польскую республику, а в мае 1926-го, уже после смерти Жеромского, совершил военный переворот и до самой смерти в 1935 г. оставался фактическим диктатором Польши.
Чарнота у Булгакова, правда, не маршал, а всего лишь генерал. Однако и для него перемена к лучшему в судьбе наступает в момент, когда генерал остался в одних подштанниках. Но у Чарноты есть и иная связь с Пилсудским. Одним из прототипов Чарноты послужил генеральный обозный в войске гетмана Хмельницкого запорожский полковник Чарнота – эпизодический персонаж романа Сенкевича «Огнем и мечом» (отсюда и характеристика генерала Чарноты в авторской ремарке как «потомка запорожцев»). А Сенкевич был любимым писателем Пилсудского и обильно цитировался маршалом в его книге о советско-польской войне «1920 год», переведенной в 1926 г. на русский язык. Булгаков, вероятно, был знаком с книгой Пилсудского. Ведь первоначально роман «Белая гвардия» задумывался писателем как трилогия, вторая часть которой охватывала бы события 1919 г., а третья – 1920 г., в том числе и войну с поляками. «Запорожское происхождение» булгаковского Чарноты также может быть прочтено как косвенное указание на Пилсудского. Дело в том, что запорожцы в первую очередь ассоциируются у читателей с большими пышными усами. А наиболее характерная деталь портрета Пилсудского – как раз пышные усы, пусть и не совсем запорожские.
Если принять, что одним из прототипов Чарноты послужил Пилсудский, а Корзухина – Ленин, то их схватка за карточным столом – это пародия на схватку Пилсудского и Ленина в 1920 г., на неудачный поход Красной Армии на Варшаву. И этот поход прямо упомянут в первой редакции Б. в речи белого главнокомандующего, обращенной к Корзухину: «Вы редактор этой газеты? Значит, вы отвечаете за все, что в ней напечатано?.. Ваша подпись - Парамон Корзухин? (Читает). «Главнокомандующий, подобно Александру Македонскому, ходит по перрону…» Что означает эта свинячья петрушка? Во время Александра Македонского были перроны? И я похож? Дальше-с! (Читает) «При взгляде на его веселое лицо всякий червяк сомнения должен рассеяться…». Червяк не туча и не батальон, он не может рассеяться! А я весел? Я очень весел?.. Вы получили миллионные субсидии и это позорище напечатали за два дня до катастрофы! А вы знаете, что писали польские газеты, когда Буденный шел к Варшаве, – «Отечество погибает»!».
Здесь – скрытое противопоставление Пилсудского и поляков, которые смогли объединиться вокруг национальной идеи и отразить нашествие большевиков, Врангелю и другим генералам и рядовым участникам белого движения, которые так и не смогли выдвинуть идею, способную объединить нацию, и проиграли гражданскую войну. Недаром Хлудов бросает в лицо главнокомандующему: «Ненавижу за то, что вы со своими французами вовлекли меня во все это. Вы понимаете, как может ненавидеть человек, который знает, что ничего не выйдет и который должен делать. Где французские рати? Где Российская империя? Смотри в окно!» Корзухин иронически прощается с покидаемой навек Отчизной, из которой он уже вывез все товары и капиталы: «Впереди Европа, чистая, умная, спокойная жизнь. Итак! Прощай, единая, неделимая РСФСР, и будь ты проклята ныне, и присно, и во веки веков…». А Чарнота в финале бросает Хлудову: «У тебя перед глазами карта лежит, Российская бывшая империя мерещится, которую ты проиграл на Перекопе, а за спиною солдатишки-покойники расхаживают?.. У меня Родины более нету! Ты мне ее проиграл!». Тут неслучаен и намек на так и не пришедшие на помощь белым «французские рати» (в позднейших редакциях –«союзные рати»). Ведь Пилсудский под Варшавой смог обойтись без помощи французских войск, ограничившись содействием французских советников.
По всей вероятности, Булгаков был знаком также с пьесой Стефана Жеромского «Роза» (1909), прототипом главного героя которой, революционера Яна Чаровца, послужил Пилсудский. На эту связь указал, в частности, партийный публицист и деятель Коминтерна Карл Радек (1885-1939) в своей статье 1920 г. «Иосиф Пилсудский», перепечатанной отдельным изданием в 1926 г.: «… Стефан Жеромский выпустил в 1912 г. (в действительности – в 1909 г. – Б.С.) под псевдонимом Катерля драму, героем которой является именно Пилсудский. Эта драма отражает в себе все отчаяние Пилсудского и его друзей по поводу реального соотношения сил Польши, каким оно проявилось в революции 1905 г., по поводу беспочвенности идей независимости среди руководящих классов польского общества. Не зная, как же сделать своего героя, Иосифа Пилсудского, победителем, Жеромский приказывает ему сделать великое техническое изобретение, при помощи которого он сжигает царскую армию. Но так как в действительности Пилсудский нового пороха не изобрел, то ему пришлось обратиться к могучим мира сего, которые обыкновенный артиллерийский порох имели в достаточном количестве».
В пьесе Жеромского есть ряд параллелей с Б. Например, в сцене маскарада в «Розе» вслед за девушкой, символизирующей поверженную революцию, и приговоренными к смерти, одетыми в одежды как на офорте Гойи, появляются непонятные фигуры - тела, зашитые в треугольные мешки, а в том месте, где за холстом должна быть шея, торчит обрывок веревки. Эти фигуры - трупы повешенных, одетые в саваны. И когда общество, только что освиставшее девушку-революцию, в панике разбегается, из-за занавеса раздается голос Чаровца, называющего труп в мешке «музыкантом варшавским», «хохлом», готовым сыграть свою песенку. Не говоря уже об очевидном созвучии фамилий Чаровец и Чарнота (в обеих возникают ассоциации со словами «чары», «очарованный»), сразу вспоминаются фигуры в мешках из Б. - трупы повешенных по приказу Хлудова, которому в тифозном бреду бросает в лицо Серафима Корзухина: «Дорога и, куда не хватит глаз человеческих, все мешки да мешки!.. Зверюга, шакал!». Последняя жертва Хлудова – вестовой Чарноты Крапилин, как и казненный в «Розе», – «хохол» (кубанский казак). Есть и еще одна параллель между «Розой» и Б. У Жеромского важную роль играет подробно, с натуралистическими подробностями написанная сцена допроса рабочего Осета полицейскими на глазах его товарища Чаровца. Осету ломают пальцы, бьют в живот, в лицо. Узник исполняет страшный «танец», бросаемый ударами из стороны в сторону. А там, где упали капли крови пытаемого, вырастают красные розы. Чаровец же мужественно обличает тех, кто пытается его запугать. «Не смоете вы с одежды, из души и из воспоминаний польского крестьянина и рабочего крови, которая тут льется! - заявляет он начальнику полиции. - Ваши истязания пробуждают душу в заснувших. Ваша виселица работает для свободной Польши… Со временем все польские люди поймут, каким неиссякаемым источником оздоровления народа была эта революция, какая живая сила стала бить вместе с этим источником, в страданиях рожденным нашей землей». И вслед за этим Чаровцу, как и его прототипу, удается совершить побег.
В Б. есть сцена допроса приват-доцента Голубкова начальником контрразведки Тихим и его подручными. Голубкова почти не бьют – лишь вышибают ударом папироску изо рта. Ему лишь угрожают раскаленной иглой, отчего сцена окрашивается в красный цвет. А вместо крови – только бутылка красного вина на столе у начальника контрразведки. И для интеллигента Голубкова одной угрозы оказывается достаточно, чтобы он сломался и подписал донос на любимую женщину. Арестованная же Серафима Корзухина спасается только благодаря вмешательству генерала Чарноты, отбившего ее у контрразведки.
Пьеса «Роза» на русский язык не переведена до сих пор. Однако сам Булгаков в той или иной степени знал польский язык, долго прожив в Киеве и общаясь с местной польской интеллигенцией. В речь булгаковских персонажей-поляков – штабс-капитана Студзинского в «Белой гвардии» и шпиона Пеленжковского в «Роковых яйцах» очень уместно введены полонизмы. Так, Студзинский говорит командиру дивизиона полковнику Малышеву: «Великое счастье, что хорошие офицеры попались». Так сказал бы поляк, тогда как для русского более естественным было бы «большое счастье». Кстати сказать, в ранних редакциях «Дней Турбиных» также подчеркивалось и польское происхождение Мышлаевского, но в окончательном тексте этот герой, символизировавший признание интеллигенцией коммунистической власти, никак не мог быть поляком, которых советское руководство рассматривало в качестве врагов № 1 в Европе.
Есть еще целый ряд деталей, связывающих Чарноту с Пилсудским. Григорий Лукьянович вспоминает Харьков и Киев. Между тем в Харькове Пилсудский учился на медицинском факультете университета, а в Киеве после побега из варшавской тюремной больницы он выпустил последний номер нелегального журнала «Работник» перед тем как скрыться за границу. В финале Б. Чарнота вспоминает, как грабил обозы. Это можно понять и как намек на знаменитую экспроприацию на станции Безданы, организованную и непосредственно возглавлявшуюся Пилсудским в 1908 г. Тогда был ограблен почтовый поезд, и об этом случае широко писали русские газеты.
Но Чарнота, при всей симпатии, которые вызывает этот герой и у автора, и у зрителей, – все же сниженное, пародийное подобие польского маршала. Ведь белые генералы гражданскую войну с большевиками проиграли, а Пилсудский свою войну с теми же большевиками выиграл. Ленин и Пилсудский вели борьбу, в результате которой на два десятилетия определилась политическая карта Европы, и с обеих сторон погибли десятки тысяч людей. Для Корзухина и Чарноты полем битвы становится всего лишь карточный стол.
Булгаков ненависти к Пилсудскому и полякам не испытывал, хотя оккупацию ими украинских и белорусских земель осуждал. В «Киев-городе» он критиковал «наших европеизированных кузенов» за то, что при отступлении из «матери городов русских» они «вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причем Цепной вдребезги», но тут же утешал киевлян: «Не унывайте, милые киевские граждане! Когда-нибудь поляки перестанут на нас сердиться и отстроят нам новый мост, еще лучше прежнего. И при этом на свой счет». Писатель верил, что вековая вражда России и Польши когда-нибудь будет преодолена, подобно тому как Сенкевич в финале романа «Огнем и мечом» выражал надежду, что исчезнет ненависть между народами-побратимами – поляками и украинцами.
Вероятно, Булгаков чувствовал, что его самого в эмиграции ждала бы скорее судьба не миллионера Крымова, а Голубкова, Хлудова или в лучшем случае Чарноты, если бы выпал неожиданный выигрыш. Еще в «Днях Турбиных» Мышлаевский предсказывал: «Куда ни приедешь, в харю наплюют: от Сингапура до Парижа. Нужны мы там, за границей, как пушке третье колесо». Крымову, имевшему недвижимость и в Париже, и в Сингапуре, и в Гонолулу, в рожу, конечно, никто не плевал. Но писатель Булгаков понимал, что ему самому миллионером в эмиграции точно не стать, и к богатым, ассоциировавшимися прежде всего с хамоватыми советскими нэпманами, питал стойкую неприязнь, вылившуюся в карикатурный образ Корзухина. Автор Б. заставил его феноменально проиграть в карты гораздо более симпатичному генералу Григорию Лукьяновичу Чарноте, чье имя, отчество и фамилия, правда, заставляют вспомнить о Малюте Скуратове - Григории Лукьяновиче Бельском (умер в 1573 г.), одном из самых свирепых соратников царя Ивана Грозного (1530-1584). Но Чарнота, хоть по фамилии «черен», в отличие от «белого» злодея Скуратова-Бельского, преступлениями свою совесть не запятнал и, несмотря на все разговоры защитников Б. перед цензурой о сатиричности этого образа, пользуется стойкой авторской и зрительской симпатией. Судьба ему дарует выигрыш у заключившего сделку с желтым дьяволом Корзухина. Булгаков не осуждает своего героя за то, что, в отличие от Хлудова, Чарнота остается за границей, не веря большевикам.
Вместе с тем «потомок запорожцев» наделен и комическими чертами. Его поход по Парижу в подштанниках - реализация мысли Хлестакова из гоголевского «Ревизора» (1836) о том, чтобы продать ради обеда штаны (с этим персонажем героя Б. роднит и безудержная страсть к карточной игре). Константинопольское же предприятие Чарноты - изготовление и продажа резиновых чертей-комиссаров, ликвидированное, в конце концов, за две с половиной турецкие лиры, восходит к рассказу Романа Гуля (1896-1986) в книге «Жизнь на фукса» (1927), где описывался быт «русского Берлина». Там бывший российский военный министр генерал от кавалерии Владимир Александрович Сухомлинов (1848-1926) «занимался тем, что делал мягкие куклы из кусков материи, набитых ватой, с пришитыми рисованными головами. Выходили прекрасные Пьеро, Арлекины, Коломбины. Радовался генерал, ибо дамы покупали их по 10 марок штуку. И садились мертвые куклы длинными ногами возле фарфоровых ламп в будуарах богатых немецких дам и кокоток. Или лежали, как трупики, на кушетках бледных девушек, любящих поэзию». Бизнес генерала Чарноты в Б. гораздо менее удачен, ибо его «красных комиссаров» турецкие дамы и любящие поэзию девушки не желают покупать даже за ничтожную сумму в 50 пиастров.
Прототипов имеют и второстепенные персонажи Б. По свидетельству Л. Е. Белозерской, Крымов «не признавал женской прислуги. Дом обслуживал бывший военный - Клименко. В пьесе - лакей Антуан Грищенко». Не исключено, что прототипом был Николай Константинович Клименко, писатель и драматург, оставивший, в частности, интересные воспоминания о другом писателе-эмигранте Илье Дмитриевиче Сургучеве (1881-1956). Вероятно, В. П. Крымов, взяв к себе Н.К.Клименко, таким образом оказывал ему вспомоществование. По иронии судьбы Булгаков наградил Антуана Грищенко в Б. косноязычием и забавной смесью «французского с нижегородским».
Буденновец Баев, командир полка, - это олицетворение упоминаемого Александром Дроздовым в «Интеллигенции на Дону» красноармейского штыка, смерть от которого грозила всем тем, кто прекращал стремительный бег к морю и дальше. В первой редакции Баев прямо обещал монахам: «я вас всех до единого и с вашим седым шайтаном вместе к стенке поставлю... Ну, будет сейчас у вас расстрел!», - целиком уподобляясь искреннему поклоннику казней среди белых полковнику маркизу де Бризару, счастливо объявлявшему: «Ну, не будь я краповый черт, если я на радостях кого-нибудь в монастыре не повешу» (черта напоминает и буденновец). Слово «шайтан» в лексике красного командира подчеркивало азиатское происхождение Баева, намеком чему служит и его фамилия. При последующих переделках Булгакову пришлось образ красного командира существенно смягчить и облагородить, освободив от азиатских, варварских черт. Баев больше не обещал устроить в монастыре расстрел, а укрывшемуся под попоной в облике беременной Барабанчиновой Чарноте даже бросал сочувственно: «Нашла время, место рожать!»
Фантастические тараканьи бега позаимствованы Булгаковым из рассказов Аркадия Аверченко (1881-1925) в сборниках «Записки простодушного» (1922) и «Развороченный муравейник. Эмигрантские рассказы» (1927) (рассказ «Константинопольский зверинец»), а также из повести Алексея Николаевича Толстого (1882/83-1945) «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1925). По свидетельству Л.Е.Белозерской, на самом деле никаких тараканьих бегов в Константинополе не было. Однако есть доказательства того, что «тараканьи бега» в Константинополе все-таки существовали. Журнал «Зарница», издававшийся находившимися в галлиполийском лагере военнослужащими армии Врангеля, сообщал в номере от 8-15 мая 1921 г.: «Закрыли с 1 мая лото… Теперь открыли тараканьи бега». По некоторым позднейшим свидетельствам, идея «тараканьих бегов» принадлежала кинопромышленнику эмигранту А.И. Дранкову. Тем не менее Булгаков, скорее всего, основываясь на словах своей второй жены, полагал, что «тараканьи бега» - это литературная фантазия, а не реальный факт из жизни русских эмигрантов в Константинополе.
В Б. вертушка тараканьих бегов с «тараканьем царем» Артуром становится символом эмигрантского Константинополя - «тараканьего царства», бессмысленности закончившегося эмиграцией бега. Из этого царства вырываются те, кто не желает, уподобляясь тараканам в банке, вести безнадежную борьбу за существование, а пытается обрести смысл жизни - Голубков, Серафима и Хлудов.
В Б. Булгакову удалось мастерски слить воедино гротеск и трагедию, жанры высокий и низкий. Трагический образ Хлудова совсем не снижается фантасмагоричными тараканьими бегами или комической сценой карточной игры у Корзухина. Чарнота в чем-то Хлестаков, но эпическое начало превалирует в образе храброго кавалерийского генерала, «потомка запорожцев», помнящего азарт боев, в сравнении с которыми тараканий тотализатор и эмигрантское прозябание - ничто. Сугубо достоверные детали гражданской войны и эмигрантского быта, взятые из надежных источников, не противоречат созданным авторским воображением тараканьим бегам, демонстрирующим тщетность надежд убежать от родины и от судьбы.
Прямых оценок Б. в булгаковских письмах не сохранилось, но близкие к драматургу люди единодушно свидетельствуют, что он считал это произведение своей лучшей пьесой. Л.Е.Белозерская в мемуарах отмечала: «Бег» - моя любимая пьеса, и я считаю ее пьесой необыкновенной силы, самой значительной и интересной из всех драматургических произведений Булгакова». Хлудова должен был играть Н.П.Хмелев (1901-1945) и, как утверждала вторая жена Булгакова: «Мы с М. А. заранее предвкушали радость, представляя себе, что сделает из этой роли Хмелев со своими неограниченными возможностями. Пьесу Московский Художественный театр принял и уже начал репетировать... Ужасен был удар, когда ее запретили. Как будто в доме объявился покойник...» Е.С.Булгакова также вспоминала, что «Бег» был для меня большим волнением, потому что это была любимая пьеса Михаила Афанасьевича. Он любил эту пьесу, как мать любит ребенка».
Михаил Булгаков
Восемь снов
Пьеса в четырех действиях
Бессмертье – тихий, светлый брег;
Наш путь – к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег!..
Жуковский
Действующие лица
С е р а ф и м а В л а д и м и р о в н а К о р з у х и н а – молодая петербургская дама.
С е р г е й П а в л о в и ч Г о л у б к о в – сын профессора-идеалиста из Петербурга.
А ф р и к а н – архиепископ Симферопольский и Карасу-Базарский, архипастырь именитого воинства, он же химик М а х р о в.
П а и с и й – монах.
Д р я х л ы й и г у м е н.
Б а е в – командир полка в Конармии Буденного.
Б у д е н о в е ц.
Г р и г о р и й Л у к ь я н о в и ч Ч а р н о т а – запорожец по происхождению, кавалерист, генерал-майор в армии белых.
Б а р а б а н ч и к о в а – дама, существующая исключительно в воображении генерала Чарноты.
Л ю с ь к а – походная жена генерала Чарноты.
К р а п и л и н – вестовой Чарноты, человек, погибший из-за своего красноречия.
Д е Б р и з а р – командир гусарского полка у белых.
Р о м а н В а л е р ь я н о в и ч Х л у д о в.
Г о л о в а н – есаул, адъютант Хлудова.
К о м е н д а н т с т а н ц и и.
Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и.
Н и к о л а е в н а – жена начальника станции.
О л ь к а – дочь начальника станции, 4-х лет.
П а р а м о н И л ь и ч К о р з у х и н – муж Серафимы.
Т и х и й – начальник контрразведки.
С к у н с к и й, Г у р и н – служащие в контрразведке.
Б е л ы й г л а в н о к о м а н д у ю щ и й.
Л и ч и к о в к а с с е.
А р т у р А р т у р о в и ч – тараканий царь.
Ф и г у р а в к о т е л к е и в и н т е н д а н т с к и х п о г о н а х
Т у р ч а н к а, л ю б я щ а я м а т ь.
П р о с т и т у т к а–к р а с а в и ц а.
Г р е к-д о н ж у а н.
А н т у а н Г р и щ е н к о – лакей Корзухина.
М о н а х и, б е л ы е ш т а б н ы е о ф и ц е р ы, к о н в о й н ы е к а з а к и Б е л о г о г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о, к о н т р-р а з в е д ч и к и, к а з а к и в б у р к а х, а н г л и й с к и е, ф р а н ц у з с к и е и и т а л ь я н с к и е м о р я к и, т у р е ц к и е и и т а л ь я н с к и е п о л и ц е й с к и е, м а л ь ч и ш к и т у р к и и г р е к и, а р м я н с к и е и г р е ч е с к и е г о л о в ы в о к н а х, т о л п а в К о н с т а н т и н о п о л е.
Сон первый происходит в Северной Таврии в октябре 1920 года. Сны второй, третий и четвертый – в начале ноября 1920 года в Крыму.
Пятый и шестой – в Константинополе летом 1921 года.
Седьмой – в Париже осенью 1921 года.
Восьмой – осенью 1921 года в Константинополе.
Действие первое
Сон первый
Мне снился монастырь...
Слышно, как хор монахов в подземелье поет глухо: «Святителю отче Николае, моли Бога о нас...»
Тьма, а потом появляется скупо освещенная свечечками, прилепленными у икон, внутренность монастырской церкви. Неверное пламя выдирает из тьмы конторку, в коей продают свечи, широкую скамейку возле нее, окно, забранное решеткой, шоколадный лик святого, полинявшие крылья серафимов, золотые венцы. За окном безотрадный октябрьский вечер с дождем и снегом. На скамейке, укрытая с головой попоной, лежит Б а р а б а н ч и к о в а. Химик М а х р о в, в бараньем тулупе, примостился у окна и все силится в нем что-то разглядеть... В высоком игуменском кресле сидит С е р а ф и м а, в черной шубе.
Судя по лицу, Серафиме нездоровится.
У ног Серафимы на скамеечке, рядом с чемоданом, – Г о л у б к о в, петербургского вида молодой человек в черном пальто и в перчатках.
Г о л у б к о в (прислушиваясь к пению). Вы слышите, Серафима Владимировна? Я понял, у них внизу подземелье... В сущности, как странно все это! Вы знаете, временами мне начинает казаться, что я вижу сон, честное слово! Вот уже месяц, как мы бежим с вами, Серафима Владимировна, по весям и городам, и чем дальше, тем непонятнее становится крутом... Видите, вот уж и в церковь мы с вами попали! И знаете ли, когда сегодня случилась вся эта кутерьма, я заскучал по Петербургу, ей-Богу! Вдруг так отчетливо вспомнилась мне зеленая лампа в кабинете...
С е р а ф и м а. Эти настроения опасны, Сергей Павлович. Берегитесь затосковать во время скитаний. Не лучше ли было бы вам остаться?
Г о л у б к о в. О нет, нет, это бесповоротно, и пусть будет что будет! И потом, ведь вы уже знаете, что скрашивает мой тяжелый путь... С тех пор как мы случайно встретились в теплушке под тем фонарем, помните... прошло ведь, в сущности, немного времени, а между тем мне кажется, что я знаю вас уже давно-давно! Мысль о вас облегчает этот полет в осенней мгле, и я буду горд и счастлив, когда донесу вас в Крым и сдам вашему мужу. И хотя мне будет скучно без вас, я буду радоваться вашей радостью.
Серафима молча кладет руку на плечо Голубкову.
(Погладив ее руку.) Позвольте, да у вас жар?
С е р а ф и м а. Нет, пустяки.
Г о л у б к о в. То есть как пустяки? Жар, ей-Богу, жар!
С е р а ф и м а. Вздор, Сергей Павлович, пройдет...
Мягкий пушечный удар. Барабанчикова шевельнулась и простонала.
Послушайте, madame, вам нельзя оставаться без помощи. Кто-нибудь из нас проберется в поселок, там, наверно, есть акушерка.
Г о л у б к о в. Я сбегаю.
Барабанчикова молча схватывает его за полу пальто.
С е р а ф и м а. Почему же вы не хотите, голубушка?
Б а р а б а н ч и к о в а (капризно). Не надо.
Серафима и Голубков в недоумении.
М а х р о в (тихо, Голубкову). Загадочная и весьма загадочная особа!
Г о л у б к о в (шепотом). Вы думаете, что...
М а х р о в. Я ничего не думаю, а так... лихолетье, сударь, мало ли кого ни встретишь на своем пути! Лежит какая-то странная дама в церкви...
Пение под землей смолкает.
П а и с и й (появляется бесшумно, черен, испуган). Документики, документики приготовьте, господа честные! (Задувает все свечи, кроме одной.)
Серафима, Голубков и Махров достают документы. Барабанчикова высовывает руку и выкладывает на попону паспорт.
Б а е в (входит, в коротком полушубке, забрызган грязью, возбужден. За Баевым – Буденовец с фонарем). А чтоб их черт задавил, этих монахов! У, гнездо! Ты, святой папаша, где винтовая лестница на колокольню?
П а и с и й. Здесь, здесь, здесь...
Б а е в (Буденовцу). Посмотри.
Буденовец с фонарем исчезает в железной двери.
(Паисию.) Был огонь на колокольне?
П а и с и й. Что вы, что вы! Какой огонь?
Б а е в. Огонь мерцал! Ну, ежели я что-нибудь на колокольне обнаружу, я вас всех до единого и с вашим седым шайтаном к стенке поставлю! Вы фонарями белым махали!
П а и с и й. Господи! Что вы?
Б а е в. А эти кто такие? Ты же говорил, что в монастыре ни одной души посторонней нету!
П а и с и й. Беженцы они, бе...
С е р а ф и м а. Товарищ, нас всех застиг обстрел в поселке, мы и бросились в монастырь. (Указывает на Барабанчикову.) Вот женщина, у нее роды начинаются...
Б а е в (подходит к Барабанчиковой, берет паспорт, читает). Барабанчикова, замужняя...
П а и с и й (сатанея от ужаса, шепчет). Господи, Господи, только это пронеси! (Готов убежать.) Святый славный великомученик Димитрий...
Б а е в. Где муж?
Барабанчикова простонала.
Б а е в. Нашла время, место рожать! (Махрову.) Документ!
М а х р о в. Вот документик! Я – химик из Мариуполя.
Б а е в. Много вас тут химиков во фронтовой полосе!
М а х р о в. Я продукты ездил покупать, огурчики...
Б а е в. Огурчики!
Б у д е н о в е ц (появляется внезапно). Товарищ Баев! На колокольне ничего не обнаружил, а вот что... (Шепчет на ухо Баеву.)
Б а е в. Да что ты! Откуда?
Б у д е н о в е ц. Верно говорю. Главное, темно, товарищ командир.
Б а е в. Ну ладно, ладно, пошли. (Голубкову, который протягивает свой документ.) Некогда, некогда, после. (Паисию.) Монахи, стало быть, не вмешиваются в гражданскую войну?
П а и с и й. Нет, нет, нет...
Б а е в. Только молитесь? А вот за кого вы молитесь, интересно было бы знать? За черного барона или за советскую власть? Ну ладно, до скорого свидания, завтра разберемся! (Уходит вместе с Буденовцем.)
За окнами послышалась глухая команда, и все стихло, как бы ничего и не было. Паисий жадно и часто крестится, зажигает свечи и исчезает.
М а х р о в. Расточились... Недаром сказано: и даст им начертание на руках или на челах их... Звезды-то пятиконечные, обратили внимание?
Г о л у б к о в (шепотом, Серафиме). Я совершенно теряюсь, ведь эта местность в руках у белых, откуда же красные взялись? Внезапный бой?.. Отчего все это произошло?
Б а р а б а н ч и к о в а. Это оттого произошло, что генерал Крапчиков – задница, а не генерал! (Серафиме.) Пардон, мадам.
Г о л у б к о в (машинально). Ну?
Б а р а б а н ч и к о в а. Ну что – ну? Ему прислали депешу, что конница красная в тылу, а он, язви его душу, расшифровку отложил до утра и в винт сел играть.
Г о л у б к о в. Ну?
Б а р а б а н ч и к о в а. Малый в червах объявил.
Пьеса «Бег», Михаила Булгакова являлась знаковым произведением для творчества автора и была написана на основании воспоминаний жены Булгакова об эмигрантской жизни и на мемуарах .
Произведение было сдано в театр МХАТ 16 марта 1928 г. Работу над постановкой должны были начать через месяц, но через некоторое время постановку отменили, а после и вовсе наложили запрет.
Резко отрицательную оценку произведению дал Сталин, хотя счел возможным добавить, что мог бы разрешить ставить пьесу если Булгаков отредактирует ее, но Булгаков отказался это делать, пьесу запретили к показу, и только в 1940 году после смерти автора ее опубликовали.
Суть пьесы
Произведение повествует об окончании , все ее действие буквально пронизано горечью отчаяния гибели Белого движения.
Судьбы белых эмигрантов, выкинутых революцией за границу проходят через все произведение. - Константинополь - Париж и дальше, бесконечность бегства от революции, из России, и что в какой-то определенный момент происходит понимание того, что бегство — это не выход, от самого себя не убежишь, а Родина — это часть их больной, исстрадавшейся души.
Сон второй, третий, четвертый -действие происходит в первых числах ноября 1920 г. Пятый и шестой сон описывают жизнь героев в Константинополе, летом 1921 г. Седьмой - Париж осень 21 года. Восьмой сон - Константинополь осень 1921 года.
Действие первое
Сон первый. Буквально в нескольких словах Булгаков показывает суровую обстановку войны, работу штаба фронта, знакомит читателя с генералом Хлудовым, который мстит своей родине за предательство, вешая и убивая красноармейцев, отдавая приказ открыть огонь «в разлуку» по Таганашу.
Генерал отдает приказ повесить и Корзухина, который отрекается от своей жены Серафимы, когда ее обвинили красной, говоря, что «начал хорошо, кончил скверно» Хлудов имеет реальный жизненный прототип генерала Слащева. Автор представляет генерала Черноту, который тоже имеет реальный прототип - генерала Улагая. Чернота бежит от буденовцев под видом беременной Барабанчиковой.
Сон второй. Все бегут за границу, и хотя, архиепископ Африкан сравнивает бегство с египетским исходом сынов Израиля, генерал Хлудов находит более емкую аналогию бегства сравнивая его спобегом тараканов от внезапно зажженного света.
Действие второе
Сон третий На сцене появляется новый персонаж контрразведчик Тихий, ищущий компромат на Серафиму Корзухину. Серафима больна, при обвинении что она коммунистка она выбивает окно и зовет на помощь Проходящего мимо с отрядом кавалерии генерала Черноту, генерал с оружием в руках отбивает ее от контрразведки.
Сон четвертый. Дело происходит все еще в Крыму. Хлудов разговаривает с призраком - вестовым. Голубков свидетель происходящего в ужасе. Вошедший с докладом казак сообщает Хлудову что его ждут на корабле Чернота и Серафима. Все накрывает тьма.
Действие третье
Сон пятый. Псевдорусский район Константинополя, генерал Чернота продает серебряные газыри символ генеральского отличия, для того чтобы получить выигрыш с тараканьих бегов. Хлудов сопровождает его и с горечью констатирует «Душный город! И это позорище - тараканьи бега». Хлудова постоянно преследует призрак повещенного им Крапилина.
Сон шестой. Все еще Константинополь, но уже лето. Происходит сора Черноты с Люсей, Голубков играющий на шарманке. Появляется Серафима с греком, несущим покупки. Чернота и Голубков прогоняют грека, Голубков объясняется Серафиме в любви. Хлудов разжалован из армии. Герои мучительно ищут выход из создавшегося положения, тоскуют по родине их буквально пронизывает жажда смерти не где-нибудь, а именно Дома в России.
Действие четвертое
Сон седьмой. Действие происходит в Париже. Чернота обыгрывает Корзухина в карты на 20000 долларов и выкупает у того медальон Хлудова. Теперь у Голубкова есть деньги чтобы помочь Серафиме.
Сон восьмой Снова Константинополь. Хлудова по-прежнему мучает призрак повешенного вестового, Серафима жалеет его и собирается уехать в Питер. Появляется Чернота и Голубков. Голубков и Серафима признаются в любви друг другу. Когда Хлудов остается один он стреляет себе в голову. И снова тьма.